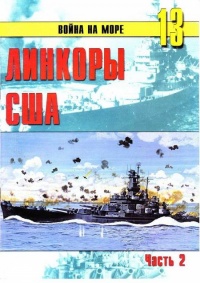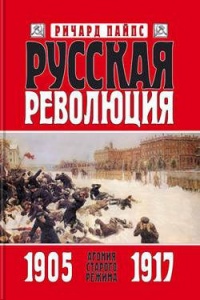Книга Грань веков - Натан Эйдельман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В последующие дни каждое утро Павлу докладывалось, что Рибопьер в крепости и «находится в опасном положении» (7 марта), «в слабом и опасном» (8, 9 марта). Лишь 10-го появилась запись об отправлении Рибопьера в деревню, «коль скоро можно будет ему по болезни».
Сам пострадавший приводит, однако, немало примеров сочувствия, которое его положение вызывало у многих лиц. Даже генерал-прокурор Обольянинов (которому приписывали зловещую роль во всем эпизоде) делает разные послабления знатному заключенному: к нему снисходительны и смотритель каземата, и солдат, стоящий у дверей камеры.
Это знамение времени. Гнев царя ужасен, но даже преданнейшие ему люди не склонны буквально исполнять приказание.
Пален несомненно использует рибопьеровский эпизод как важнейший повод. Несправедливость, жестокость налицо: обиженная фамилия – очень видная, знатная; наследнику в просьбе о помиловании отказано, и он тем самым еще раз оскорблен.
Несколько важных записей об этих напряженных днях почти совпадают. Прежде всего, приблизительно одно и то же записывают наблюдатель событий Август Коцебу и Гёте (поэт, возможно, воспользовался позже именно записями Коцебу или своего знакомца, тоже литератора, Клингера, начальника 2-го кадетского корпуса).
Гёте: «Вторник 5. Граф Пален отстранен от двора, жена его также отослана со своим экипажем обратно.
Среда. Графу Палену внушают, что император вернет ему милость, если он прямо или косвенно, через гр. Кутайсова, попросит прощенья. Граф отвергает это.
Четверг. Палена опять призвали ко двору».
Коцебу: «Павел рассердился и не только дал почувствовать графу Палену свое неудовольствие, но даже оскорбил его в том, что было ему всего дороже; когда супруга графа, первая статс-дама, приехала ко двору, ей только тут объявлено было, что она должна вернуться домой и более не являться».
Присоединим к этим двум записям цитированные строки Головиной, что Павел гневался на Палена, но Кутайсов «добился прощения»; еще заметим, что жена Палена, обычно каждый день приглашаемая на ужин ко двору, отсутствует там 5 и 7 марта; кажется, мы наблюдаем момент чрезвычайно критический… Вместе со слухами об аресте «18…26…100 человек» Рибопьерово дело – фон, повод для окончательных решений.
Петербург тех дней похож на город, захваченный неприятелем (согласно Рибопьеру – «вовсе невеселый город»). Погода, по общему суждению, «ужасная», да еще объявлен с 1 марта десятидневный траур по случаю кончины герцогини Брауншвейгской. Каждый мартовский номер «Санкт-Петербургских ведомостей» содержит 35 – 40 фамилий отъезжающих за границу, и (учитывая правило трехкратного упоминания в газете о каждом отъезде) выходит, что 12 – 15 семей, иностранных и русских, желают каждый день покинуть опальный город. Это для тех лет очень много, тем более что летний сезон – обычное время путешествий – еще далек.
Для сравнения заметим, что уже в конце марта – начале апреля (при Александре I) в каждом номере газеты в 3 – 4 раза меньше объявлений об отъезде (26 марта – 14 фамилий; 29-го – 10, 1 апреля – 13 и т. п.).
Наконец, ползущие по городу слухи, будто Павел бил в лицо наследника, когда он просил за осужденных; что наследник вставал у одного из дворцовых окон с подзорной трубой, чтобы «следить за несчастными, отправляемыми в Сибирь, и передавать им пособие».
Слухи о переменах в императорской фамилии, о гигантском английском флоте, что движется к Зунду… Недаром один из первых приказов Александра I адресован русскому посланнику в Дании – «поставить в известность командующего английским флотом о происшедших переменах». Позже будут гадать, не был ли приказ Нельсону войти в Балтику результатом секретной информации лондонского кабинета о предстоящем дворцовом перевороте в Петербурге. Знакомство с документами британских политиков действительно создает впечатление нервного, напряженного ожидания. Так, в дневнике бывшего посла в России (а в 1801 г. одного из руководителей Foreign Office) мартовские записи почти совершенно не касаются России, Балтийского моря, Индии. И вдруг среди спокойных, деловых подробностей следующие строки: «Получены письма из Вены от 12-го марта. Все – балы и праздники. Позор и проклятие им». Так ощетинившаяся флотами и не жалеющая золота Англия аттестует австрийскую капитуляцию перед французами (только что подписан победоносный для Наполеона Люневильский мир между Парижем и Веной).
В феврале и начале марта 1801 г. царь по меньшей мере дважды дает «династический повод» для введения в дело уже не раз описанного паленского механизма.
Наследники
Сохранившийся документ от 21 февраля 1801 г. выдержан в самых торжественных тонах: «Нижеподписавшийся вице-канцлер кн. Александр Куракин, быв призван 21 февраля 1801 года его императорским величеством, имел честь стоять перед лицом его в Михайловском замке и в почивальне его и удостоился получить изустное объявление, что в скором времени ожидает рождения двух детей своих, которые, если родятся мужеска пола, получат имена старший Никита, а младший Филарет и фамилии Мусиных-Юрьевых, а если родятся женска пола, то … старшая Евдокия, младшая Марфа – с той же фамилией. А воспреемником их у св. купели будет государь и наследник цесаревич Александр Павлович и штатс-дама и ордена св. Иоанна Иерусалимского кавалер княгиня Анна Петровна Гагарина».
Как видно, в ход пущены главнейшие лица и санкции. В том же документе расписано, что крестить будущих детей в церкви Михайловского замка; их жалуют по 1000 душ на каждого и гербом.
Два старших сына Павла, а также Строганов, Нарышкин и Кутайсов подписали вместе с Куракиным и Обольяниновым эту удивительную бумагу, которую поздний биограф Павла объяснял «боязнию грядущего».
Эпизод формально не имел больших последствий: одна из возлюбленных Павла, камер-фрау императрицы Юрьева, на власть не претендовала; вскоре родились две девочки, но прожили недолго. Однако высокая торжественность необычного акта, не покрывавшего, но, наоборот, открывавшего грех и явно унижавшего Марию Федоровну, привлечение к церемонии наследника – все это имело, по мнению Павла, воспитательный, назидательный характер. Здесь иллюстрация безграничной возможности обходить многие принятые правила, та степень самовластия, при которой, скажем, права Александра ничтожны и легко могут быть подобным актом сведены на нет.
История эта быстро распространилась, очевидно направленная заговорщиками в нужном смысле (она вошла как достаточно существенная и в хронику Гёте). Прежде всего резко усилились старые разговоры о перемене царицы.
Павел до последнего вечера был, по-видимому, еще далек от развода, но слухи о возможности изгнания императрицы, подогретые Паленом, уже повторялись сотнями придворных уст, а от них и петербургская чернь подхватывает версию о возможной женитьбе царя на Гагариной, а еще более – о таковых же шансах мадам Шевалье.
Очевидец передает грубо-простонародную оценку событий – как «на Исаакиевской площади какой-то мужик показывал за деньги суку, которую звал мадам Шевалье».