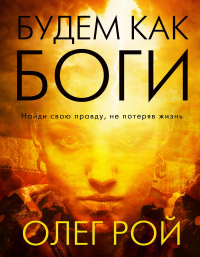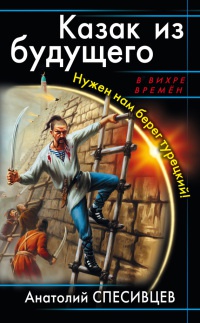Книга Дорога на Тмутаракань - Олег Аксеничев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хозяин и лекарь разошлись, довольные друг другом, и Миронег вселился в такое же, как и у Богумила, подобие кельи, но расположенное по другую сторону длинного коридора, кольцом опоясавшего второй этаж постоялого двора.
Богумил проснулся от тихого ритмичного стука. Рука болгарина привычно метнулась к рукояти положенного у изголовья короткого меча. Осторожность не помешает, хотя ночным грабителям вряд ли пришла бы в голову мысль известить о себе стуком в дверь.
Двести лет назад киевский князь Святослав, заливший кровью болгарские земли не меньше, чем басилевс Василий II Болгаробойца, да приготовят ему в аду горшие из мук, слал гонцов к своим противникам. «Иду на вы!» – гласили самонадеянные строки княжеских посланий. Но не вызов на поединок читался за скупыми фразами, а уверенность в силе и победе. Сдайся по-хорошему или подохни по-плохому – на выбор!
Нащупай во тьме дверной засов и получи от блеснувшей в свете луны стали дыру поперек горла. Получи агонию, когда тело твое будет вздрагивать в муках, разбрызгивая кровь по стенам, пока чужие руки перетряхивают комнату в поисках ценных вещей.
Богумил подумал о таком исходе.
И отворил засов, даже не спросив, кто беспокоит его в такой поздний час.
Спросишь – подскажешь нежданному визитеру, где стоишь, дашь возможность приготовиться к удару. Богумил прижался к стене, затаив дыхание.
После тьмы неяркое пятно света, порожденного восковой свечкой, слепило глаза.
– Где ты, путник?
Этот голос Богумил не мог спутать ни с каким иным.
Как нелеп был меч, удерживаемый вмиг вспотевшей ладонью.
– Я здесь.
Священник просил не покидать комнаты – Богумил и не собирался этого делать!
Миронег проснулся от предчувствия беды. Ладонь привычно метнулась к изголовью, пальцы охватили перевитую тонкой железной проволокой рукоять меча.
Постоялый двор спал. Из-за щелястой бревенчатой стены справа от двери доносился рокочущий, подобно морскому прибою, храп безвестного соседа Миронега. При таком сопровождении был совсем не слышен легкий скрип мягких подошв сапог хранильника.
От изложницы к двери.
Скрип, но иной. Отворилась дверь, и, стараясь ступать на носок, Миронег вышел в кольцевой коридор. Во внешней стене коридора еще при строительстве постоялого двора были прорублены небольшие оконца, через них тянуло ночной прохладой. Миронег, обувшийся, но оставшийся в неподпоясанной исподней рубахе, зябко поежился.
Нелепо было стоять вот так, полуодетым, но с мечом в руке, в коридоре, где подвешенный к стене у лестничного спуска светильник не столько разгонял, сколько, наоборот, сгущал темень.
Но ошибиться Миронег не мог.
Приученный сызмальства к творению не только добрых заговоров, но и черных заклятий, научившийся за многолетнюю лекарскую практику, что добро и зло суть едины, – спроси о том калеку, у которого отняли ногу, чтобы спасти жизнь! – познавший языческую мудрость, веками копившуюся ведунами, Миронег чувствовал зло.
Неосознанно.
Вставшими дыбом волосами на макушке.
Покалыванием в кончиках пальцев.
Миронег был как пес, завывший вдруг на луну.
Вот, кстати, и она заглянула сквозь небольшое окошко. Округлая. Присмотришься, сощурив глаза, – разглядишь на ней ухмыляющуюся по-скоморошьи рожу.
Лунный луч, бледно-голубой, как палец мертвеца, уткнулся в одну из дверей. Миронег невольно посмотрел в ту сторону и услышал.
Не шум, но шепот.
Плохой шепот. Нечеловеческий.
На древнем языке. Том самом, на котором Миронег не так давно у берега безымянной реки прочитал или даже прохрипел заклинание, ускорившее время и убившее половецкую погоню.
Для Миронега древний язык и зло были единым целым.
И хранильник, продолжая ступать больше на носок, крадучись пошел к преданной луной двери. Меч Миронег держал на излете, опущенным острием назад, чтобы в случае нежданного нападения сразу, на замахе, ударить кверху, вспарывая живот предполагаемого врага от паха до грудины.
Носком сапога Миронег попробовал дверь. Она неожиданно легко подалась, отойдя на палец вовнутрь, и хранильник, уже не церемонясь, толкнул сильнее.
Скрипнули протестующе давно не смазанные петли, и Миронег пардусом скользнул в комнату.
Меч змеей прошипел, рассекая прохладный ночной мрак, и уставился острием туда, где за металлической жаровней, усыпанной багровыми потрескивающими углями, на смятой кровати сплелись телами двое.
– Никогда не говори «никогда», – проговорил Миронег. – Вот и встретились сызнова, паломник!
Паломник Богумил сделал шаг навстречу греху, затем еще и еще. И грех шагнул навстречу, босой, простоволосый, в тонкой рубахе, облепившей искушение так, что добродетель смутилась и отступила. Грех держал в руке восковую свечу. Мерцающий огонек дрожал в глазах греха, как сердце в груди Богумила.
– Я… пришла…
И слов не стало.
Были руки, робко протянутые друг к другу в кромешной тьме, потому что задутая свеча покатилась куда-то под ноги, были два дыхания, смешавшиеся при первом, еще робком поцелуе, были тела, прижимавшиеся одно к другому все теснее и сильнее.
Был грех, и был экстаз, сродни – если это кощунство, так прости, Господи! – молитвенному. Было переплетение Света и Тьмы, божественного и дьявольского, что, собственно, и составляет нашу грешную жизнь, дарованную Всевышним.
Когда силы болгарина готовы были иссякнуть, девушка взяла инициативу на себя. Осторожно, но требовательно она перевернула любовника на спину, там погладила, тут поцеловала и, почувствовав воспрявшего партнера, впустила его в себя и задвигалась вверх-вниз с закрытыми глазами. Ее губы беззвучно шевелились, словно девушка пела в такт толчкам, то замедлявшимся, будто наслаждение любовью сменилось истомой сна, то ускорявшимися до болезненного для болгарина жжения в паху.
И чем меньше становилось наслаждение, тем скорее прибывала боль. Богумил попробовал повернуться на бок, ссадить с себя распоясавшуюся сверх всякой меры всадницу, но девичьи ноги держали крепко, как деревянные колодки вора, выставленного для позора на рыночной площади.
«Хватит», – хотел сказать Богумил, но из открытого рта не исторглось ни слова. Так он и продолжал лежать под девушкой, неутомимо скользившей по нему. И раз за разом исторгал из себя семя, содрогаясь от муки, в которой уже не осталось никакой сладости.
Ее голос возник на границе боли и забытья. Богумил приоткрыл слипающиеся веки, покрытые коростой невесть откуда взявшегося гноя, и увидел, как девушка, продолжая ритмично двигаться, сомкнув рот плотнее крепостных створов, говорит что-то нараспев на незнакомом болгарину языке. Голос шел откуда-то из живота, словно девушка проглотила живое мыслящее существо, подающее сигналы бедствия.