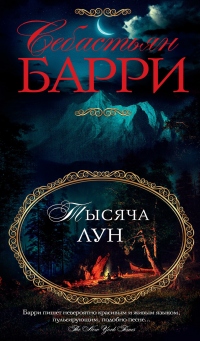Книга Скрижали судьбы - Себастьян Барри
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Как Джек, — заметила я.
— Как Джек, только он офицер. Я был в Белфасте, Розанна, ждал своего корабля, спал в одной гостиничке, как вдруг взвыла пара их паршивых дряхлых сирен, и через несколько минут — бомбардировщики, их десятки, десятки, десятки, и они преспокойно сбрасывают бомбы, и ни одной нашей зенитки не слышно, а вокруг взрываются дома, улицы. И как я только выбрался оттуда, мчался по коридорам что твой черт, вопил, уж точно, яростно молясь за всех жителей Белфаста, и вскоре сотни людей высыпали на улицу, и все, как я — орут да молятся, люди в пижамах и нагишом, будто младенцы, бегут, кричат, и мы уж на окраине города, и все бежим, а самолеты волнами идут за нами, сбрасывают бомбы безо всякой жалости. И через час или около того я залез на самый верх огромной черной горы, оглянулся, а Белфаст — огромное огненное озеро, горит, полыхает, языки пламени прыгают, будто какие-то красные твари, тигры какие-то, допрыгивают до самого неба, и все, кто со мной бежал. тоже глядят туда и плачут, и звуки такие, будто плачет пророк Иеремия. Тут я вспомнил про библии, которые обычно раздают в моряцких миссиях,[58]куда я до войны часто захаживал, скитаясь туда-сюда, — и те, кто записан в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное, и я дрожал, дрожал перед гневом Господним, только то был не Господь, то были немцы там, возле самых звезд, глядели на свою работу и, наверное, думали, что это хорошо, — глядели, как и мы.
Тут этот Энус умолк. Он дрожал снова. Ему было очень худо. Отсвет того огненного озера все еще полыхал у него в глазах.
— Зайди, — сказала я, — зайди на минутку, отдохни.
Не знаю, проснулся ли во мне материнский инстинкт или сестринский. Но вдруг меня накрыло огромной волной нежности к нему. Я подумала — мы ведь с ним чем-то схожи. Мир тоже отрекся от него, мир Слайго. И я бы не сказала, что он походил на преступника. Не сказала бы, что он похож на кровожадного полицейского из той стародавней истории, хотя тогда я той истории еще не знала. Вот ведь, вот же ведь, как мало я о нем знала, как редко братья говорили о нем — одними вздохами да многозначительными взглядами.
— Нет, не могу, — сказал он. — Ты меня не знаешь. Такого гостя ты вряд ли захочешь в дом пустить. Еще попадешь в беду из-за меня. Тебе что, не говорили, что на мне смертный приговор? Мне нельзя быть здесь, в Слайго. Я ушел из Белфаста, прошел весь Иннишкиллен, и вот оказался здесь, как голубь, который против воли все равно летит домой.
— Входи, — сказала я, — и не беспокойся ни о чем. Я ведь тебе невестка все-таки. Входи.
И он вошел. Пока он шел, с него летели крошечные хлопья сажи. Он прошагал пешком весь путь из Белфаста, вернувшись в Слайго, будто голубь — будто лосось в устье Гарравога. Он показался мне самым печальным человеком на свете.
Я завела его в дом и показала, чтоб безо всяких церемоний снимал свою форму. Первым делом я принесла ему попить воды в чашке, на которую он совершил небольшую атаку, выпив воду так, будто ему нужно было затушить пожар внутри. У меня было старое жестяное корыто, мне пришлось пару раз сходить к колодцу, чтобы наполнить его доверху, пока на плите грелся чайник. Затем я не согрела, а только немного разбавила студеность воды кипятком. Все это время маленький серый мужчина стоял в длинных кальсонах посреди комнаты, и я поразилась тому, каким чистым было его белье.
Он был узкокостный, ладно скроенный, никаких округлостей, как у Тома, нет, с ним и не сравнить.
— Пойду в кладовку, возьму сыра для сэндвича, — сказала я.
Ради приличия я оставила его одного и слышала, как он чуть запнулся, стягивая кальсоны, залез в корыто и принялся мыться. Уж, наверное, будучи солдатом, он привык мыться в холодной воде — я надеялась. Но, как бы там ни было, а он ни звука не издал. Когда я сочла, что прошло достаточно времени, то зашла обратно. Уж оттер он себя как следует, корыто пенилось серыми мыльными пузырями, а сам он опять стоял посреди комнаты и застегивал кальсоны. Теперь было видно, что волосы у него цвета ржавчины, хоть и обгорели до самого скальпа. Кожа у него была мечена солнцем дочерна, а руки были загрубевшие, толстопалые. Я ему кивнула, будто говоря: ну как, ты в порядке, а он кивнул в ответ: в порядке, мол. Я протянула ему толстый кусок хлеба с сыром, и он тихонько заглотил его, прямо не сходя с места.
— Ну что ж, — сказал он, улыбнувшись, — хорошо, когда есть семья.
И я тоже рассмеялась:
— Уж я тебя понимаю, — говорю.
За окном начало смеркаться, и сова — мой старый товарищ — уже начинала прогревать мотор. А я теперь и не знала, что мне с ним делать. Вроде бы я его так хорошо знала — то есть лицо его знала и фигуру, — и в то же время я о нем не имела ни малейшего представления. Однако же никогда я еще не встречала такого мягкого и такого странного человека. Он стоял совершенно неподвижно, будто горная лань, которая застыла на месте, услышав, как хрустнула ветка.
— Спасибо тебе, — сказал он очень просто и очень искренне.
И так на меня это подействовало — то, что другой человек меня поблагодарил. Так на меня подействовало то, что другой человек заговорил со мной по-доброму и с уважением. И тут я тоже застыла на месте и глядела на него, чуть ли не потеряв дар речи.
— Давай-ка я выбью твою форму на улице, — сказала я, — а то иначе она не просохнет до завтра.
— Нет, — ответил он, — оставь как есть. Мне ее не полагается носить среди фристейтеров. Сойдет и такая, вся перепачканная. Доберусь до Дублина и там уж попытаюсь отыскать свою часть. Сержант будет за меня беспокоиться.
— Будет, уж точно, — сказала я.
— Знаешь, я ведь хороший солдат, — сказал он.
— Хороший, уж точно, — сказала я.
— Я не дезертир какой-нибудь, — прибавил он зачем-то. А мне это и так было понятно.
— Знаешь, — продолжил он, — я ничего такого не имею в виду, ну, то есть я вот тут стою в одних кальсонах и тебя впервые в жизни вижу, но вообще я вернулся в Страндхилл потому, что у меня была тут девчонка, мы с ней сюда ходили — на танцы, конечно, — Вив ее звали, а потом ей наговорили про меня всякого, мол, не стоит со мной водиться, ну и с тех пор я ее не видел. Но мне охота было постоять на берегу, там, где мы с ней, бывало, стояли вместе и глядели на залив. Вот так все просто. А Вив была прехорошенькая, вот правда. И вот я хочу сказать, не имея в виду ничего такого, что красивее тебя я никого не видал на свете, красивее тебя и ее.
Ну что ж, очень милая у него речь вышла. И ничего такого он не имел в виду, разве что только и хотел правду сказать. Внезапно во мне вспыхнула даже какая-то гордость, которой я не чувствовала уж очень давно. Этот мужчина, сам того не зная, говорил как мой отец, когда отец хотел сказать что-то важное.
Была в его словах какая-то чудная старинная пышность, будто бы слова эти взялись из книги, из той самой книги, что я до сих пор хранила и лелеяла, из старого сочинения Томаса Брауна Religio Medici. А ведь этот мальчишка жил в семнадцатом веке, так что я даже не знаю, как такое наречие добралось до Энуса Макналти.