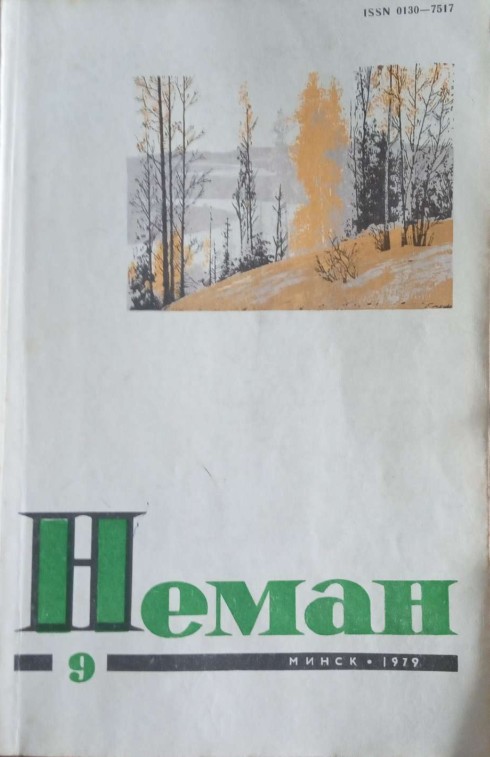Книга Росток - Георгий Арсентьевич Кныш
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
...Поезд миновал стрелки Поста-Волынского, выбрался на простор и помчался на Фастов, разбрызгивая свет на окрестные нивы, перелески, на отодвинутые в зимнюю темень степные села. Григорий в купе был один, сидел у столика, перебирал в памяти свое пребывание в Киеве. Жаль, что ни разу не удалось сходить на Днепр, скованный льдом, засыпанный снегом. Редко бывал в театрах и музеях. Все свободное время просиживал над конспектами, «пережевывал» увиденное и услышанное на занятиях. Чем же он похвастается перед товарищами, чем поделится с коллегами? А собственно, какое ему дело до них? Как это какое? До всех есть дело! До всех и до всего! Иначе зачем жить? В чем смысл жизни? Говорят, главное — быть человеком? А что это означает? Он и так человек — по законам рождения, законам бытия. Выходит, что в эти слова вкладывается еще какой-то дополнительный смысл. Что же имеется в виду? Интеллект? Эмоции? Немного сужено... А шире?.. Понимание? Доброта? Сочувствие? Снисходительность? Как-то однобоко...
Поезд застучал на стрелках, остановился. В купе вошла невысокого роста молодая женщина в дымчатом пальто, в белой пуховой шали. Поставив на пол черный чемодан с блестящими застежками, повернула к Григорию округлое лицо с большими серыми глазами и тоненьким голоском пропела:
— Здесь не занято? Я вам не помешаю?
Григорий встал.
— Ну что вы! Конечно, не помешаете. Я один на все купе. Располагайтесь. Давайте помогу вам раздеться.
— Не утруждайте себя. Я сама. — Женщина сняла пальто, шаль, раздвинула занавески на окнах, поставила на столик бутылку минеральной воды, чашечку. По купе разлился запах розового масла. — Закажем чай? Вы не против? Угощу вас домашним печеньем. Люблю стряпать. Меня зовут Женей. А вас?
— Григорием.
— У вас неприятности? Сидите, как гриб на морозе, — Женя улыбнулась, довольная своей шуткой.
— Нет, неприятностей нет, как и их противоположности — приятностей. Ваше появление отношу к последней категории.
— Комплимент с философской подкладкой. Что-то новенькое. Общечеловеческими понятиями забавляетесь?
— Не совсем так. Раздумываю над тем, что означает выражение «Быть человеком». Даже в обобщенной расширенной форме не пойму. Сравните: «быть солнцем», «быть деревом», «быть рыбой», «быть камнем»...
— Ой, это ж так просто! — всплеснула Женя маленькими ладошками. — Основные признаки... Солнце означает тепло, дерево — зелень и гибкость, рыба — что-то скользкое, камень — неподвижность... А человек... Он означает все самое лучшее, самое разумное, самое красивое. Некрасивых людей нет.
— Вы, Женя, немного не с той стороны... Однако... Мне импонирует ваше определение. Буду человеком в вашем понимании.
В купе заглянула проводница. Женя заказала два стакана чая, повернула голову к Григорию.
— Вы неискренни. Отделались каким-то общим ответом и успокоились. Чувствую, что у вас не все хорошо.
— Почему же? Все в норме. Рядовой эсэнэсе, то есть старший научный сотрудник. Рядовые успехи и неудачи. Заурядный круг интересов, нарушаемый приятным исключением — красивыми женщинами. Обычная анкета — родился, учился, получил, работал...
— О, анкета! — прервала Григория Женя. — Это своеобразный авансовый отчет за предыдущие годы. Только сдаешь его не в бухгалтерию. И считаешь не рубли, а прожитые дни. Счастлив тот, у кого они не пустопорожние.
— Разве есть и такие? Пустопорожний день — удачно сказано.
Вошла проводница. Молча поставила на столик два стакана чая.
— Что ж это я! — спохватилась Женя, раскрывая чемодан. — Хвалилась печеньем и забыла... Берите, угощайтесь. — Она положила на стол пакет с печеньем.
Печенье было вкусным, хрустящим, таяло во рту. Помешивая ложечкой в стакане горячий чай, Григорий задумчиво смотрел в окно.
— Вы не знаете, Женя, — нарушил он наконец молчание. — Нынче вкусная еда стала привычной, не то что когда-то... Хотите, немного расскажу о себе, о своем детстве?
— Конечно, — кивнула Женя. — С удовольствием послушаю.
— Я вырос в детдоме. После войны нас пособирали с пожарищ... В сорок третьем фашисты поймали отца, связного партизанского отряда. Повесили его, уже застреленного, мертвого, на вербе в нашем дворе. Мама и старшая сестренка стояли неподалеку и плакали. Заодно и их... Я сидел в собачьей будке, оттуда все видел. Зажгли хату... На всю жизнь врезалось в память... Горящие пучки соломы вылетали из стрехи, пламя обжигало волосы мамы, отца, сестрички... И вдруг загрохотали взрывы. Фашисты побежали. А у меня перед глазами все закружилось, и наступил мрак...
Очнулся я на чьих-то руках. Раскрыл глаза. Вижу — красноармеец. В гимнастерке. С погонами. Удивился, что из-под пилотки выбиваются длинные каштановые волосы. Присмотрелся повнимательней. А это, оказывается, девушка. Такая славная. Баюкает меня, как мама... Вырыли для меня красноармейцы землянку, покрыли досками и пошли дальше в наступление. Целую зиму я выколупывал мерзлую картошку на огороде. Тем и питался.
Весной победного года меня — одна кожа да кости — извлекли из землянки. Привезли в детский дом. Голодно и холодно жилось там. В праздничные дни на десятерых выдавали пачку сухих соленых американских галет. По одной на брата. Мы отламывали по кусочку, клали в рот и смаковали. Хватало на полдня. За что только не выменивали это лакомство! За решенную задачу. За монисто из вишневых косточек. За ночное дежурство.
Весною полегчало. Как только появились на берегах болот и проток побеги очерета и рогозы — рвали и набивали себе животы. Потом пошла кашка акации, сладкая и хрустящая. А там и крапиву начали рвать. А на Майские праздники привезли нам большой мешок зерна. Целую ночь мололи его ручными жерновами, сдирая кожу на пальцах и набивая синяки на руках. Какие оладьи пекла нам наша детдомовская Мария Васильевна! Без масла, на горячем поду в печи...
Вот, Женя, угостили вы меня домашним печеньем, а я вспомнил Марию Васильевну. Не знали мы, конечно, тогда, что она недоедала, недосыпала. Все нам отдавала. И какими бы мы ни были слабыми, голодными, она ежедневно усаживала нас за парты, где-то раздобывала куски оберточной бумаги и делала для нас тетради. Вместо чернил варила густой бузиновый настой. Хоть два-три часа в день, но учились. Она была и учителем языка, и математиком, и физиком... Господи, какие трудные годы и какие наполненные!
Мария Васильевна сама отвезла меня в механический техникум, где был интернат. Наведывалась до тех пор, пока я его