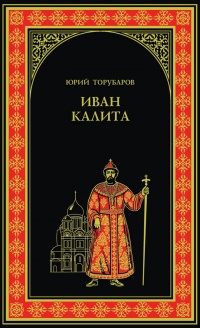Книга Сказка белого инея. Повести - Иван Михайлович Чендей
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И в этом была своя добродетель, был освященный веками закон.
Вот потому-то и белел лесок зимой громадными шапками снега на ветвях и убирался в иной год так, будто на великий праздник выряжался… И нам уже казалось, что тот лесок не только что живет, но и чувствует, думает, понимает… Что и сам он знает цену своей красоте.
Всегда, всегда, как только я возвращался домой, в родимый край, поднимался к леску на склоне. Поднимался, чтоб поговорить с самим собой, чтобы упиваться далекой лазоревой далью над отцовской обителью. Навеки в душе моей щедрый зеленый шум, осенний золотой гомон, сказочный зимний иней букового лесочка недалеко от родной хаты.
СОСЕДИ
Их у нас было много! Разве скажешь про всех?
Мы были бедными, оттого и в памяти лучше всего живут именно самые бедные наши соседи.
У бабки Семенихи были четыре дочки, а из них старшие — Анна и Мария. Захлопоталась с ними бабка. Вот уже и заневестились, и какие-никакие женихи появились, а счастья настоящего все не было.
Когда Анна вышла за Ферка с Брустур — в Дубовое пришел он в примаки (так говорят про того, кто живет в доме жены), взялись молодые строить себе хату на взгорке, повыше Бегунцовой чащи.
Приземистый, одноногий, в смушковой шапке корчмарь как-то после вечерни спросил в разговоре Ферка:
— А ты что, на Голгофе живешь? — и показал корчмарь рукой в ту сторону, где уже серела поставленная бедная хата.
— На Голгофе! — только всего и промолвил пришлый Ферко Федаков и смущенно замолк.
И правда! Не чем, как Голгофою, стала тощая да убогая межина для Анны и Ферка невдалеке от нашей усадьбы.
На полонинку (так назывался клочок земли, выданный молодице в приданое) — дерево для сруба носили на плечах. Была поздняя осень. На вязкой, топкой земле по склону скользили, падали, ушибались, ранились — какую ж еще Голгофу можно было придумать для них при таком начале семейной жизни? Всем гуртом несли селяне нашей округи на полонинку содранную со старой хаты и разъятую на части кровлю. Когда сильные мужики медленно взбирались с ношей по крутому склону, казалось, что то неторопливо ползет на гору диковинное чудище.
Наконец хата соседки Анны и примака Ферка была сложена, наконец задымила над ней, закурилась легонькая тучка — примета жизни. Значит, развели в хате первый огонь.
Да не успели захозяйничать, не успели поставить огорожу, посадить первое деревце и привести хотя одну-единственную животинку — козу, как народился маленький. Помню те вечера, когда мама наша доила корову и посылала меня к Федакам с кринкой:
— Неси, голубчик, молочко бедным людям… То не грех, коли молочко для чужой малой дитяти… — поучала меня мама, бросая в молоко маленькую щепотку соли, — мне ведь было через ручей переходить, и тут уж без соли никак нельзя, а то, глядишь, все молоко прокиснет.
Я выбирался вверх по склону к Анне и Ферку, когда над полониной трепетали первые вечерние зори, а село мигало огоньками каганцов в окнах. Как-то и вправду странно было глядеть с Ферковой полонины на наше село — огромное, раскиданное не только по широкой низине, но и по близким и дальним околицам. Вдали, над хатами и над застывшими, почерневшими садами самоуверенно и гордо возвышался купол кирпичной церкви, белой жестью застывали и белели деревянные церквушки… Кругом было тихо-тихо, и от этой немоты как-то даже страшно становилось… Я поскорей торопился к хате.
Анна радовалась, как только я переступал необычно высокий порог хаты. Но только ставила она порожнюю кринку на лавку, я тут же спешил домой. Какая-то невидимая сила побуждала меня бежать быстрей, я даже оглянуться боялся. Одинокая хата на горе почему-то пугала серым срубом, непомерно высокой черной крышей с белыми полосками там, где вшивались дранки-заплаты, маленькими черными глазницами оконных стекол.
От недостатка да недогляда ребенок у Федаков прожил недолго. Люлька висела на крючках недвижно — ее не успели снять и вынести на чердак, а в гробу лежал маленький Микулка. Обложенный цветами и пахучими травами, он несомкнутыми до конца глазенками укоризненно глядел на этот жестокий мир. Над ним стояла заплаканная и горюющая Анна. Анну кто-то из женщин утешал: короткий век был у маленького Микулки и безгрешный, душенька его полетела с полонины ангелочком прямо в царство небесное к самому господу богу. А я, стоя у порога, слушал эти утешения и думал: а ведь оттого, что полонина высоко над низиной, то и до неба путь Микулкиной душе короткий, легкий…
Немного лет прошло, Анна, бедняжка, умерла. Осиротевшая светловолосая девочка ходила после нее по людям — где хлеба ломоть дадут, где молоком напоят. Что набедовалась, изголодалась! А Ферко больших печалей да забот себе не причинял. Женился снова. Пошел примаком в село, через горы, в Терешел. Запустела, захирела Феркова полонина. Долго стояла на ветрах замертвевшая хата. Не взвивалась над нею тучка сизого дыма, не светил поздними вечерами в оконцах подслеповатый каганец. Возвращались ли мы с покоса, пасли ли недалеко коров — мимо хаты никогда не проходили. Боялись. Прошли годы. Хату на полонине разобрали — одно только нечище осталось и насыпь.
На том месте, где был огородец, долго еще зеленел куст роз, цвел простенькими цветами до самой осени. Обнимая его сплошной стеной, дичал и прорастал травою под кустом барвинок. Цветущий синими крестиками цветов барвинок. Его посадила Анна в первую же осень, как поселилась на полонине. Хотелось ей, бедняжке, чтоб у хаты была и красота…
Полонина-Голгофа лысеет тощей землей, порастает пыреем и дикою неприхотливою травою…
Давно уже одичал и зачах розовый куст. А от барвинка и следу не осталось…
Чудно́е уличное прозвище было у нашего соседа Дмитра Магулы — звали его Фанагой. Отчего так, никто на нашей околице не знал. Магула был первым нашим соседом.
Чуть только на склонах таяли и оплывали снега, чуть пробивался первой зеленью побег разбуженной земли, так и тянуло нас к живой изгороди на участке деда Фанаги. Мы приникали к ней, выискивали щелку. И любовались подснежниками в саду. Весь он синел ими, и зрелище это приманивало, заколдовывало нас.
Наконец кто-нибудь из нас пробирался через огорожу, чтоб добыть хоть один цветок. Срывал — и тут