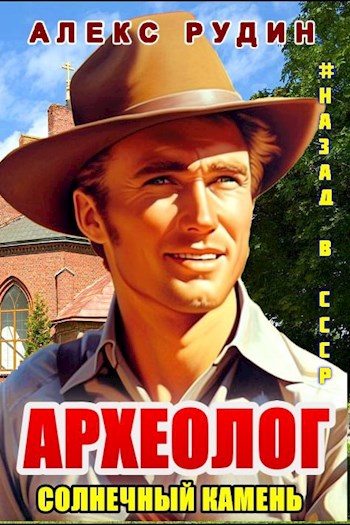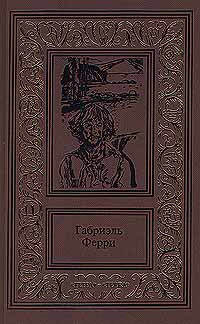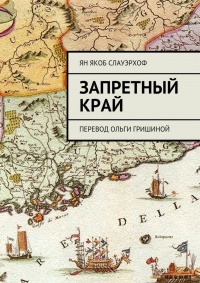Книга Переходы - Алекс Ландрагин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шел дождь. Я очень быстро промок до нитки, промокла и моя книга, и я уже засомневался в целесообразности этой вылазки на природу, тем более что природу не слишком любил. Через некоторое время меня нагнал ослик, запряженный в телегу, и я очень обрадовался, когда тележка остановилась и возница — он сидел под брезентовым навесом, где было достаточно сухо, чтобы он мог курить трубку, — поинтересовался, зачем это я шагаю один-одинешенек по дороге в такой дождь. Я изумился, услышав, что ко мне обращаются на безупречном, пусть и старомодном французском, отмеченном вышедшими из употребления формами слов, над которыми сегодня во Франции бы посмеялись, да еще и с провансальским акцентом, хотя цвет кожи у старика был такой же, как у креолов. Я поведал ему, что застрял на острове и вот направляюсь в горы, укрыться там от городской духоты. Он сказал, что едет в предгорья, и предложил к нему присоединиться.
Я забрался на тележку и сел рядом со стариком. Лицо у него было иссохшее и такое древнее, что он напоминал одну из тех черепах, про которых говорят, что они живут по семь тысяч лет. Голову, по большей части лысую, украшали длинные пряди побелевших волос. Длинная седая борода доходила до самого пупка. Даже местные туземцы и те одевались пристойнее: вытертые штаны порвались на колене, рубаха была без рукавов. На голом плече я приметил старую сине-зеленую татуировку: широко раскрытый глаз, который явственно выцвел за долгие годы. Выглядел старик дико, но буквально источал доброту и благорасположение. Никогда не забуду блеска его глаз. Он сказал, что зовут его Робле. Сказал, что родился в Марселе. Я спросил про его возраст, он ответил, что какой нынче год, он не знает, но помнит, что родился в тысяча семьсот шестьдесят втором. Захотел узнать, какой год на дворе. Я ответил: тысяча восемьсот сорок первый, то есть ему сейчас семьдесят девять лет. Старик недоверчиво покачал головой. «Выходит, полвека», — проронил он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне.
По счастью, Шарль слишком увлекся своим рассказом и не заметил изумления, которое наверняка отразилось у меня на лице при этом откровении, несмотря на мою отточенную способность скрывать свои чувства. Я промолчала, однако оставшуюся часть его истории слушала с таким вниманием, с каким еще не слушала никого и ничего.
— Поначалу мы ехали в молчании, спутник мой попыхивал трубкой, набитой табаком со сладковатым ароматом, — он сказал мне, что к табаку подмешан гашиш. Потом спросил, как так вышло, что я застрял на острове. Я поведал ему свою историю: мне девятнадцать, я направляюсь, без особой охоты, во французскую Ост-Индию. А потом спросил у Робле, как так вышло, что он поселился на этом тропическом острове. «Друг мой, — произнес он, — в историю мою поверить непросто, и если вы позволите мне ее вам пересказать, то наверняка придете к выводу, что я выжил из ума». Я покачал головой и пообещал, что выслушаю его совершенно непредвзято. Старик помолчал и некоторое время искоса разглядывал меня, как будто оценивая. Наконец, когда ослик вытянул нашу тележку на узкую каменистую тропку, уходившую в горы, он начал свое повествование. «Молодой человек, — заговорил он, — с виду вы начитанный, культурный, жадный до знаний — возможно, вам знакомо понятие метемпсихоза?» Я ответил, что он, видимо, имеет в виду восточные верования в новое рождение души после смерти. Старик умолк, посмотрел куда-то вперед, ни на чем не сосредоточивая взгляда, как будто погрузившись в глубокие размышления. «Да, — ответил он наконец, — таковы восточные верования. Но, судя по всему, существует и иной вид метемпсихоза, не описанный восточными мудрецами. Это метемпсихоз при жизни. Мне с ним довелось столкнуться лишь раз, и из ваших слов я только что узнал, что было это ровно пятьдесят лет назад. По образованию я врач и в молодости служил в торговом флоте. История, о которой я вам сейчас расскажу, произошла во время плавания в океане, который картографы называют Тихим, хотя он какой угодно, но не такой. Судно наше, «Солид", обнаружило прежде не открытый остров. Туземцы называли его Оаити. У них была в ходу странная разновидность своего рода прижизненного метемпсихоза, который они называли переходом. Совершался он достаточно просто: требовалось лишь, чтобы два человека несколько минут кряду смотрели друг другу в глаза. Там, на острове, пытаясь уяснить суть этого редкостного феномена, я посмотрел в глаза юноше, который был разве что немного моложе вас. Памяти об этом я не сохранил, она осталась лишь в моих снах — но в каких снах! Правильнее было бы назвать их кошмарами. Ужас, в который они меня повергали, был столь велик, что на борту всякого судна, где я служил, я становился парией. Но я слишком переменился, чтобы вернуться во Францию, вот и решил поселиться здесь и посвятить себя исцелению туземцев и креолов». — «Если вы не помните момента метемпсихоза, почему так уверены, что он имел место?» — поинтересовался я. «Еще один моряк, имя его было Жубер, испытал то же самое. Впоследствии он попытался мне объяснить, что с ним произошло, но я обвинил его во лжи. Это изображение нанес Жубер. — Робле указал на глаз, вытатуированный у него на плече. — За работой он мне поведал, что произошло. Разумеется, я — дитя эпохи Просвещения, человек разума и науки, верящий лишь в измеримое и доказуемое. Я решил, что этот бедолага лишился рассудка, стал его избегать. Вскоре после этого мы расстались — прямо здесь, на этом острове. Я радовался, что больше никогда его не увижу, что мне не придется осмыслять его слова. Лишь много позже, после бессчетных мучительных ночей, то, что я поначалу счел безумием Жубера, начало принимать очертания истины, которая умоляла, чтобы я в нее поверил. Вот уже много лет я пытаюсь отыскать Жубера, высматриваю его всякий раз, когда отправляюсь в Порт-Луи за провизией, — вся моя надежда на то, что он меня разыскивает тоже. Дважды, а порой и трижды в неделю