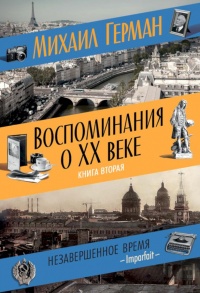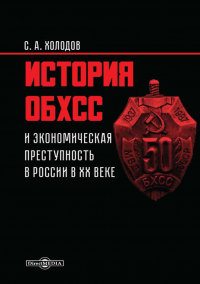Книга Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения - Ирина Паперно
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стратегия Интерпретатора прежде всего заключается в попытке присоединиться к современным западным философам и социологам постмодернистского направления. Имена, которые едва ли можно было упоминать (и категории, которыми никак нельзя было пользоваться) в годы советской власти, когда общественные науки работали в рамках марксистско-ленинской методологии, заметным образом присутствуют в речи Интерпретатора: Фуко, Бурдье и де Серто, Делёз и Гваттари, Рикёр, Бодрийяр, Бауман и многие другие. Интерпретатора особенно привлекают представления о «смерти субъекта» и «исчезновении автора» (они подробно обсуждаются в секции Предисловия под названием «Бессубъектный человек»).
«Исчезновение автора»
На обложке второй тетради Киселева обратилась к редактору, который готовил тогда ее историю к публикации:
Умница Вы Елена Ольшанская!
Я пишу не очень грамотно а вы все делаете вернея пишите по свойму. оформляете (129).
Автор приветствует редактуру своего текста. Для Киселевой переписать ее историю грамотно вовсе не значит, что ее текст станет неаутентичным (как это кажется образованному читателю), а значит, что он станет более правильным (вернее). Надеясь на публикацию, она радовалась, что ее текст принимает под пером редактора общепринятую форму258.
Думая также и о фильме, который будет сделан на основе этого текста, она сообщает редактору, что выбрала название:
Кишмарева
Киселева
Тюричева,
я так такхочу назвать кино259.
В качестве названия фильма она выбрала три свои фамилии: девичью (она стоит первой), по первому мужу и по второму.
В публикации в «Новом мире» 1991 года Ольшанская использовала (добавив запятые) выбранное автором название: «Кишмарева, Киселева, Тюричева». В издании 1996 года имени автора нет на титульном листе, где значится: «Н. Н. Козлова И. И. Сандомирская. Я тактак хочу назвать кино. „Наивное письмо“: опыт лингво-социологического чтения». (Запись Киселевой о ее выборе – включая и три имени – воспроизведена в виде рисунка на контртитуле.) В предисловии в нескольких случаях имя автора написано неправильно – то порядок трех имен изменен и добавлена пунктуация («Киселева. Кишмарева. Тюричева»), то допущена ошибка в правописании («Кисилева») и т. п.260 Может показаться фривольным говорить здесь об опечатках, особенно если учесть большой объем текстологической работы, проделанной в трудных условиях. Однако сам Интерпретатор с особой силой нападает на своего предшественника, Редактора, указывая в предисловии на его тенденцию очистить текст от присутствия автора, включая и изменение авторского правописания и пунктуации (245; 250). Интерпретатор замечает, что у публикатора «рука не поднимается» опубликовать текст в его «естественном состоянии», и спрашивает: «Нарратив Е. Г. Киселевой носит подзаголовок „я так хочу назвать кино“, публикатор его вычеркивает. Отчего?» (41). В свою очередь, позволю себе заметить: Интерпретатор испытывает трудности при воспроизведении имени автора, как будто рука не поднимается. Кроме того, Интерпретатор принял сознательное решение не помещать в книге фотографию автора (16). Отчего?
Объяснение можно найти в тех методологических и философских принципах, которые Интерпретатор позаимствовал у современных западных мыслителей.
«Бессубъектный человек»
Интерпретатор спрашивает: можно ли говорить о «наивных авторах» как субъектах? В самом деле (рассуждает Интерпретатор), философское понятие субъективности традиционно ассоциируется с рациональностью, свободой выбора, рефлексивным сознанием. «Субъект мыслится хозяином истории, который берет ответственность за прошлое, настоящее и будущее…» (53). В этой перспективе такие авторы, как Киселева, не тянут на «субъекта» (54). Интерпретатор полагает, что записки Киселевой лишены знаков исторической принадлежности, которые отличают мемуары ее образованных современников:
Имена довоенных вождей практически отсутствуют. 22 июня 1941 – единственная историческая дата, которую Е. Г. Киселева упоминает. Большой Истории, с которой постоянно соотносятся записки «культурных», у Е. Г. Киселевой нет (83).
Более того, Интерпретатор полагает также, что в записках «отсутствуют способы вербального представления любовного чувства» (75). Незамеченными остались и признаки повествовательной прозы в записках Киселевой:
Рукопись свидетельствует, что Е. Г. Киселева не в состоянии выстроить нарратив в соответствии с линейным временем, в то время как биография пишется во временной последовательности (67).
В конечном счете, публикуя ее записки, Интерпретатор пришел к следующему заключению: ввиду этого Киселева не стала, вопреки желанию, «субъектом» своего письма (в традиционном понимании этого термина). Однако Интерпретатор отказывается осудить таких людей (как поступают интеллектуалы-легислаторы) и вместо этого сдвигает парадигму:
…человек этот – не историческое извращение, не монстр, каким он кажется порой производителю нормы. Но он не действует в истории как автономный субъект, и это как раз то его свойство, которое так не нравится политикам и интеллектуалам. Не удается обнаружить у пишущих черт активных субъектов, «хозяев» истории, которые бы желали и могли взять на себя ответственность за настоящее, прошлое и будущее. Наивное «ручное» письмо словно подтверждает и иллюстрирует мысль приверженцев постмодернистских методологий о смерти субъекта, об исчезновении автора, о существовании бессубъектных форм культуры (54).
Одним словом, вооруженный понятиями современных западных общественных наук (включая упомянутого в этой связи Фуко) Интерпретатор, констатируя, что простой человек (даже когда он пишет историю своей жизни) остается лишенным свободной воли, саморефлексии и исторического сознания, при этом, безусловно, принимает «наивного писателя» как «Другого», во всей его инаковости, – а именно как бессубъектного человека.
(Заметим, что после появления издания Козловой и Сандомирской неологизм «бессубъектный человек» вошел в оборот и у других авторов. Так, А. В. Захаров, специалист по социальной философии, приветствовал эту фразу как новое наименование для «маленького человека», известного из литературы XIX века. Этот исследователь замечает, что вовсе не случайно идея о людях без субъективности была выдвинута не западным, а российским ученым, и полагает, что способ толковать таких авторов, как Киселева, в качестве людей без субъективности продолжает «демократическую традицию в русской литературе», начало которой восходит к Пушкину, Гоголю, Достоевскому»261.)