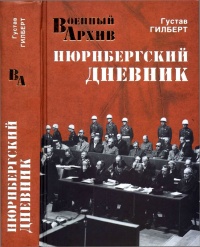Книга Нюрнбергский процесс глазами психолога - Густав Марк Гилберт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
9–10 марта. Тюрьма. Выходные дни
Камера Геринга. Геринг лежал на койке одетым в ожидании прихода своего адвоката. Я сообщил ему, что в дни, когда проходит его защита, он обязан появиться в зале заранее, с тем, чтобы, в соответствии со своими же пожеланиями, получить возможность спокойно проконсультироваться с защитой. Мне очень хотелось знать, что сами обвиняемые думали по поводу совершенных ими преступлений. Опершись локтями на койку, Геринг спокойным и серьезным тоном ответил мне:
— Есть кое-что, что вам следовало бы знать — на самом деле! Хотите верьте, хотите нет — но я это утверждаю с полной ответственностью: жестоким я не был никогда! Признаю, я мог действовать жестко, не отрицаю и того, что я далеко не всегда колебался, если речь шла о расстреле, скажем, 1000 человек — заложников в качестве акции возмездия или кого-нибудь еще. Но допускать жестокости — подвергать пыткам женщин и детей — Боже избави! Это вообще не в моем характере. Вероятно, вам это покажется патологией — но я до сих пор не могу понять, как Гитлер мог знать обо всех этих мерзких деталях и мириться с ними. Когда я узнал об этом, мне страшно захотелось, чтобы здесь минут на 10 оказался Гиммлер. Уж я бы расспросил его о том о сем. Если бы хоть кто-нибудь из генералов СС выразил свой протест…
— Как же вы тогда можете обвинять в измене такого человека, как Лахузен? Он ведь понимал, что происходило, и делал все, что мог, для подрыва изнутри этой тирании!
И снова в Геринге ожил националист, и этот последний вопил куда громче неверно понятого и приветливого радетеля за все человечество, в тогу которого Геринг пытался рядиться.
— Позвольте, позвольте, это совершенно другое! Это предательство! Пособничество противнику! Можно устроить революцию, можно даже пойти на убийство, на все пойти — естественно, в этом случае не стоит забывать, что ты рискуешь головой. Каждый волен присвоить себе любое право. Даже я сам шел на подобный риск во время нашего путча 1923 года. И меня вполне могли убить, а не то что ранить. Но прошу не забывать — существует различие между изменой родине и государственной изменой.
Я попросил его пояснить эту разницу.
— Измена родине — это измена Отечеству в пользу зарубежного государства — самое постыдное, что может быть. А государственная измена — это просто измена правящему режиму, главе государства. Нечто совсем другое.
— Если только представить себе, что эта ваша, с позволения сказать, революция, или, точнее, «пивной путч», действительно измена, то я крайне удивлен, что вы с Гитлером еще так легко отделались.
Геринг снова хитровато рассмеялся.
— Да, конечно, но не забывайте, что это был баварский суд, а баварцы действовали заодно с нами, потому что хотели своей, баварской революции. К чему они стремились, так это к автономии, к отделению Баварии от северной части Германии и создания своего рода католического союза с Австрией, мы же, великогерманские патриоты, хотели как раз противоположного. И когда мы предложили им сначала спихнуть существовавший режим и воцариться самим, они согласились выступить на нашей стороне. Разумеется, мы и не думали ни о каком расколе Германии ради какого-то там их католического союза. И они не могли себе позволить никакой бесцеремонности по отношению к нам, они ведь тоже желали крушения Веймарской республики.
В этот момент охранник принес послеобеденный кофе. Геринг, усевшись, сунул в кофе хлеб, после чего бесшумно проглотил свою мешанину.
— Богатая событиями жизнь выпала на вашу долю, — заметил я.
— Да, верно. Я вот думаю, если бы представилась возможность прожить жизнь снова, я не совершил бы некоторых ошибок. Впрочем, теперь-то какая разница? Тут уж о своей участи долго не порассуждаешь. Колеса истории, политики с позиции силы и экономики направлять ох как тяжело. Вполне логично предположить, что Англия мечтала столкнуть нас с Россией лбами, это было бы только на пользу Британской империи. Вполне логично и то, что Россия, по той же самой причине, не имела бы ничего против, если бы мы увязли в войне с западными державами.
Геринг снова хитро усмехнулся.
— Знаете, если бы выдалась такая возможность усесться подле камина за стаканчиком виски с сэром Максуэллом-Файфом и в открытую с ним побеседовать, могу на что угодно спорить, что британцы всем сердцем желали, чтобы мы начали войну с Россией. Да, все именно так — силы истории, перенаселение — вот что определяет ход событий. И неважно, кто приходит к власти, все равно цепь неминуемых событий была и остается.
Такой исторический фатализм Геринга — явно искусный прием, с помощью которого он надеется защититься, сознательно и с выгодой для себя подчиняя моральные последствия неким геополитическим силам.
Камера Франка. Франка настолько поглотили выведенные им же абстракции, что он понемногу стал терять интерес к процессу. В ответ на мой вопрос, что он думает по поводу защиты Геринга, Франк просто отмахнулся от меня, бросив невзначай, что, дескать, все идет своим чередом.
— Однако этот суд — уже не тот Божий суд, — заверил он меня таким тоном, будто все пресловутые отличия носят объективный, но не субъективный характер. — Если вы снова начнете подвергать этим тестам и определять быстроту моей реакции, я здорово усомнюсь в том, что этот суд действительно ниспослан нам Богом. Русским вообще на этом процессе делать нечего. И как только у них хватило наглости восседать здесь перед нами и судить нас?!
Франк кивком указал на книгу, которую читал.
— Я только что прочел о Тридцатилетней войне, когда католики и протестанты делали друг другу кровопускание, пока в это уничтожение коренного населения Германии не оказалась вовлеченной вся Европа. В конце концов, и до протестантов, и до католиков дошло, что проповедовать Слово Божье можно и вместе.
Франк залился истерическим смехом.
— А теперь Германии пришлось снова пережить кровавую резню по причине фанатизма нового пошиба, — заметил я. — Думаете, люди извлекут из этого урок?
— Что вы — нет, — тяжко вздохнул Франк. — На человечестве лежит проклятье. Жажда власти и агрессивность пересиливают все.
Таково было мнение эксперта в данной области.
Камера Риббентропа. Риббентроп по-прежнему был утомлен и не мог сосредоточиться, и мало что мог сказать по поводу эпизода со свидетелем Геринга. Я поинтересовался у него, что он думал об утверждении Геринга о том, как он, по его словам, за спиной Риббентропа пытался договориться с англичанами. В ответ бывший министр иностранных дел лишь пожал плечами.
— Много было такого, о чем я не знал.
И тут же безучастно посетовал на то, что, вероятно, так и не сможет вовремя подготовить свою защиту.
Камера Папена. Папена развеселил эпизод со свидетелем Геринга.
— Он может защищаться до Страшного суда, но никогда не объяснит, ради чего пошел на все это. Суду следовало бы положить конец этой бесполезной трате времени, сказав: «Переходим к следующему!»