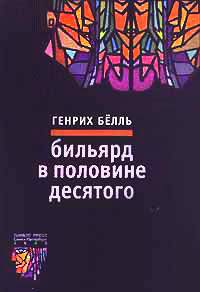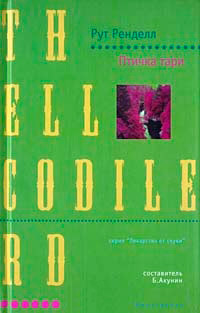Книга Дом без хозяина - Генрих Белль
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нет, это просто подлость, – повторил Брилах, не поднимая головы. Не дождавшись ответа, он посмотрел на Мартина и добавил: – Ну, на кого ты будешь похож? Штаны ведь измажешь!
Лицо у него было важное, денежное. Мартин смолчал, хотя язык у него чесался ответить:
«Да брось ты задаваться! Смотреть противно на твою денежную физиономию!» Но он не сказал этого: говорить с Генрихом о деньгах было опасно. Однажды Мартин уже попробовал сбить с него спесь: он сказал Генриху, что у них дома всегда есть деньги, у всех – у дяди Альберта, у матери и у бабушки. После этого Генрих шесть недель не появлялся у них, шесть недель не разговаривал с Мартином. Дяде Альберту пришлось ездить к Генриху и уговаривать его, чтобы он снова приходил к ним. В те дни Мартин не находил себе места. Поэтому он теперь и молчал. Прислонившись к стене, обхватив руками колени, он продолжал наблюдать за Вильмой. Та нашла себе новое занятие: она вытащила из ранца все книги, пенал, потом открыла задачник, оказавшийся сверху, и ткнула пальчиком в одну из картинок. Внимание ее привлек изображенный на ней торт, торт, который можно было разделить на восемь, на шестнадцать, на тридцать две части и который стоил либо две, либо три, либо четыре марки. Требовалось узнать, сколько стоил в каждом из этих случаев один кусок. Вильма, видимо, поняла, что изображено на картинке, – она громко выкрикнула одно из немногих известных ей слов: «Сахар!» Но «сахаром» Вильма называла и африканские бананы. За тонну их было на месте заплачено столько-то (а кстати, сколько килограммов в тонне?), наценка в розничной торговле составила столько-то процентов, спрашивается, сколько стоит килограмм бананов? Вслед за бананами Вильма превратила в сахар и большой круг сыра, и хлеб, и мешок с мукой. На картинке у человека с мешком была мрачная физиономия – Вильма сразу же решила, что это Лео. Зато пекарь, считавший мешки, весело улыбался; его она назвала «папа». Вильма знала пока три слова: Лео, папа и сахар. Портрет на стене – это «папа». Всех мужчин, которые были с ней ласковы, она тоже называла «папа», а всех, кто ей не нравился, – «Лео».
– Я сделаю себе бутерброд с маргарином, – сказал Мартин, – можно?
– Конечно, – ответил Генрих, – но на твоем месте я все же пошел бы домой. Дядя Альберт очень волновался, а ведь он заезжал сюда уже с час тому назад.
Мартин опять промолчал, и Генрих повторил сердито:
– Ну и подлец же ты! – И уже тише добавил: – Делай бутерброд, чего ждешь?
Лицо его стало еще серьезней, и видно было, что ему страшно хочется рассказать о том, какая ответственная задача ему поручена. Генрих ждал лишь вопроса. Но Мартин решил ни за что не спрашивать его. Он старался не думать о дяде Альберте – злость постепенно прошла, теперь он чувствовал лишь угрызения совести. Конечно, глупость сделал: пошел зачем-то в кино. Мартин попытался вновь распалить в себе злость. И дядя Альберт стал такой же «записочник», как и другие, – все чаще пишет он короткие записки на обрывках газеты, трижды подчеркивая самое важное, по его мнению, слово. Эту штуку с подчеркиванием придумала мама. Она почему-то всегда подчеркивает выражения вроде: «должна», «не смогла», «нельзя было».
– Вставай же, – раздраженно сказал Генрих, – штаны извозишь! Сделай себе бутерброд.
Мартин встал, отряхнул штаны и улыбнулся Вильме. Та перевернула страницу задачника и с торжеством указывала пальчиком на барана, весившего ровно шестьдесят четыре килограмма пятьсот граммов. Мясник купил его, уплатив столько-то марок за каждый килограмм живого веса, а потом продал его, но уже на фунты и с такой-то наценкой. Мартин, как и другие, не заметил подвоха, решая эту задачу, и механически написал шестьдесят четыре пять десятых фунта: он забыл, что в килограмме два фунта. После этого учитель не упустил случая торжествующе заявить, что этак все мясники в городе в два счета разорятся. Но мясники в городе и не думали разоряться – дела у них шли как нельзя лучше. Вильме очень понравился баран, она пропищала: «Сахар, сахар!» – и перевернула страницу. Здесь была изображена какая-то глупая тетка, покупавшая в рассрочку мотороллер. Генрих по-прежнему сидел за столом и подсчитывал что-то, нахмурив лоб: Мартин заглянул в его листок и увидел множество цифр, перечеркнутые столбики и подчеркнутые результаты. Он подошел к буфету, отодвинул в сторону хрустальную вазу с искусственными фруктами. Стеклянные бананы, персики, апельсины. Особенно здорово был сделан виноград – Мартин всегда удивлялся, до чего же он похож на настоящий! Он знал, где что стояло. Вот алюминиевая коробка с хлебом, масленка с маргарином, блестящая жестянка с яблочным джемом. Мартин отрезал толстый ломоть хлеба, намазал его маргарином и джемом и стал торопливо есть. Он даже вздохнул от удовольствия. Дома никто не мог понять, кроме разве Глума и Больды, что ему очень нравится маргарин. Бабушка ужасалась, когда видела у него в руках бутерброд с маргарином, и своим рокочущим голосом заводила длинный разговор о всевозможных болезнях, расписывая их во всех подробностях. Это были жуткие болезни, и самая опасная из них называлась тебеце. «Смотрите, дело кончится „тебеце“, – причитала бабушка. Но Мартин находил маргарин вкусным. Не отходя от буфета, он намазал маргарином второй бутерброд. Вильма радостно заулыбалась, когда он снова уселся рядом с ней на полу. „О розы, розы алые“, – пела наверху фрау Борусяк. Ее голос, глубокий, грудной, вдруг показался ему родником, из которого ключом била кровь. На мгновение он ясно представил себе розы, алые розы, падавшие изо рта фрау Борусяк, их очертания расплывались, сливались воедино, и вот уж изо рта ее струится кровь. Мартин решил когда-нибудь нарисовать это: белокурую фрау Борусяк и льющийся у нее изо рта поток кровавых роз.
Вильма перелистала задачник почти до последней страницы. Здесь тоже речь шла о тоннах и килограммах. На картинках были изображены корабли в порту и товарные вагоны, бегущие по рельсам: грузовики и пакгаузы. Вильма указывала пальчиком на матросов, железнодорожников и шоферов и делила их на «пап» и на «Лео». «Лео» попадались гораздо чаще: у большинства людей на картинках лица были нахмуренные, угрюмые. «Лео – Лео – папа – Лео – Лео – Лео – папа». На одной из картинок рабочие валом валили из заводских ворот – всех их Вильма без разбора зачислила в «Лео». Катехизис разочаровал ее – в нем не было картинок, если не считать пары виньеток. Назвав гроздья и гирлянды «сахаром», Вильма отложила катехизис. Зато хрестоматия оказалась просто кладом: здесь «пап» на картинках оказалось куда больше, чем «Лео»; святой Николай, святой Мартин, танцующие в кругу дети – все сплошь были «папы».
Мартин снова взял Вильму на колени и стал кормить ее, отламывая кусок за куском от своего бутерброда. Ее бледное толстое личико сияло, и перед каждым куском она провозглашала: «Сахар!» Потом она вдруг расшалилась и стала без конца выкрикивать: «Сахар, сахар, сахар!»
– Черт! – воскликнул Генрих. – Придумай какую-нибудь игру потише.
Вильма перепугалась, наморщила лобик и с важным видом приложила пальчик к губам.
Фрау Борусяк перестала петь, и из столярной мастерской не доносилось ни звука. В этот миг вдруг зазвонили колокола. Вильма закрыла глаза и, пытаясь подражать их звону, стала кричать: «Дон-дон-дон». Мартин тоже невольно закрыл глаза и перестал жевать. Звон колоколов стал зримым. За закрытыми веками возникла целая картина. Колокола вызванивали в воздухе сложные узоры, сверкающие кольца росли, ширились, потом распадались и исчезали, их сменяли квадраты и штрихи, вроде тех, которые садовник граблями вычерчивал на дорожках сада. Причудливые многоугольники выплывали из мглы, словно штампованный орнамент из жести на серой стене. А серебряное «дин-дон» Вильмы, как маленькое долото, стучало в бесконечную серую стену, вбивая в нее ряды сверкающих точек. Потом краски смешались. Алый цвет кровавых роз – открытые круглые рты с ярко-алыми губами, желтые волнистые линии, а когда колокола сильно ударили в последний раз, появилось огромное темно-зеленое пятно; оно медленно бледнело, съеживалось и исчезало вместе с последними отзвуками колокола.