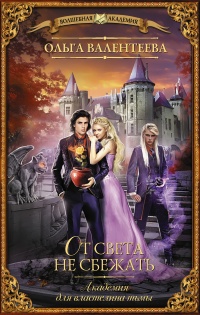Книга В плену отражения - Татьяна Рябинина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тучи висели так низко, что, казалось, до них можно было дотронуться рукой. Дул сырой холодный ветер. Дорога казалась бесконечной. Помня о том, что слона надо жрать по кусочкам, я делила ее на крошечные отрезки: сейчас доедем до того дерева, потом вон до той лужи, а теперь — до поворота.
Наконец вдали показалась стена, окружавшая парк. Тогда она была еще не каменная, а бревенчатая. Ворота наверняка были закрыты, но калитку, через которую слуги ходили в деревню, утром отпирали. Оставалось совсем немного — только проехать через парк. Маргарет должна была уже проснуться и сидеть у себя, поблизости от помойной лохани. Тони наверняка сходил с ума от беспокойства — ведь он ждал меня еще вчера утром. Я бы на его месте каких только ужасов не напридумывала.
В парке я не встретила ни одного человека — и это было странно. Ну да, холодное сырое утро, но где все люди? К боли и слабости добавилось еще и нехорошее предчувствие.
Мост через ров оказался поднятым. Вот это сюрприз!
Я не помнила, было ли так в прошлый раз. Возможно, и было — Маргарет в это время почти не выходила из комнаты. Зачем — вот вопрос. Никакой войны, никаких беспорядков тогда не было.
Возможно, Полли и смогла бы переплыть ров, но на крутых склонах она наверняка переломала бы ноги. Да и что толку — поднятый мост служил внешними воротами. Оставалось только ждать, не вечно же они будут сидеть, словно в осаде.
Не знаю, сколько прошло времени. Хмурое утро перетекло в такой же хмурый день, светлее не стало. Я с трудом держалась на лошади, рассеянно бродившей вдоль рва, но не могла слезть, потому что понимала: обратно будет уже не вскарабкаться.
Наконец раздался металлический лязг, звон цепей: мост медленно опускался. Когда он тяжело лег поперек рва, со скрипом открылись ворота. С внутреннего двора донесся цокот копыт и конское ржание — Полли дернула головой и кокетливо отозвалась. Роджер со своей обычной кисло-недовольной миной проехал по мосту и скрылся в парке.
Не дожидаясь, пока мост поднимут снова, я направила Полли в ворота, остановила ее под аркой и мешком то ли сползла, то ли съехала на землю. Еще не хватало только, чтобы дверь оказалась закрыта. В ответ на мои мысли она распахнулась, едва не ударив меня по лбу. Элис вышла с пустым кувшином и отправилась через двор к хозяйственным постройкам.
Останавливаясь на каждой ступеньке, я с трудом поднялась наверх. В груди хрипело и свистело, как будто там работала паровая машина. Холл, одна комната, другая. Тони сидел в спальне на полу, свесившись над лоханью и имитируя рвоту. Услышав мои шаги, он неуклюже повернулся — словно преодолевая сопротивление несмазанного механизма.
— Света! Боже мой! — устало, но с облегчением сказал он. — Я уже не знал, что думать. Что с тобой?
— Я больше не могу! — простонала я и опустилась на пол.
Мартин, почуяв свободу, тут же пополз к двери. Он с трудом шевелил руками и ногами, как полураздавленный краб, из последних сил пытающийся добраться до воды.
— Закрой дверь! — сказала я. — Запри. Не выпускай его.
Проводив Свету в Стэмфорд, Тони внезапно почувствовал чудовищное, можно сказать, космическое одиночество. Испытал он его в Отражении не впервые, но теперь это было именно его одиночество — Тони Каттнера, а не Бернхарда Церингена или Мартина Кнауфа. Когда он только попал в прошлое, вместе с ним был Мартин. То есть Бернхард. В тот день, когда Бернхард… нет, уже Мартин… В общем, когда он ушел, Тони встретил Маргарет — Свету. И хотя он даже словечка не мог сказать ей от себя, все равно знал: она здесь, рядом. И вот теперь остался совсем один.
Если попытаться найти одно-единственное слово, которым Тони мог бы охарактеризовать свое отношение к происходящему, это было бы, несомненно, «раздражение». Его раздражало и бесило все, без исключения. И больше всего — тело, в котором угораздило очутиться. Тело Маргарет.
Призрак Бернхарда перенес Тони в момент своего первого детского воспоминания, было ему тогда года четыре. Это было солнечное, необыкновенно яркое утро ранней осени. В зульцбургском замке окна его комнаты выходили в маленький садик, где цвели мелкие вьющиеся розы. Бернхард смотрел, как по саду медленно, придерживая рукой тяжелый живот, прогуливается мачеха Урсула. Чуть поодаль следовала няня с маленькой Гретхен на руках.
Первым осознанным чувством Бернхарда было именно острое — до слез! — одиночество. Его мать Елизавета Бранденбург-Ансбахская умерла через несколько месяцев после родов. Говорили, что отец был безутешен — но недолго. Возможно, его скоропалительная женитьба на Урсуле фон Розенфельд в какой-то мере была продиктована желанием дать детям хотя бы толику материнской заботы, однако он просчитался. Семеро детей-погодков Эрнста были для нее пустым местом. Нет, она не обижала их — просто не замечала.
У Бернхарда была няня Мария, добрая и ласковая, которую позже сменил наставник барон Гейден, — и ни одного друга. Старший брат Альбрехт не обращал на него внимания, сестры держались своей стайкой. Бернхард надеялся, что мачеха родит сына, который подрастет и станет ему товарищем, но после Маргариты появилась Саломея, и лишь восемь лет спустя — Карл. Избалованный, противный Карл, плакса и ябеда.
Наверно, лет до десяти жизнь Бернхарда предстала перед Тони чередою разрозненных обрывков и лишь после этого стала обычной плавной последовательностью событий. Тони вспоминал рассказ Светы — то же самое было у нее с Маргарет. Ему было бы, наверно, интересно расти и взрослеть вместе с Бернхардом, прожить его жизнь, — если бы не постоянные мысли о том, что он теряет время. Что они со Светой в настоящем — обуза для Питера и Люси. Что их дочь растет без родителей. Это было невыносимо, но пришлось смириться.
Раздражение появилось еще тогда, когда Бернхард был маленьким мальчиком, и возросло многократно, когда тот превратился в юношу. Тони было неудобно и неуютно в теле ребенка, но настоящее неудобство началось в теле взрослого мужчины. И дело было не в каких-то моральных принципах Бернхарда или его физической нечистоплотности, так бесившей Свету. В конце концов, Тони сам не был аскетом и не считал разбросанные по углам грязные носки страшным преступлением. Поступки Бернхарда, все эти его бесконечные попойки, драки и шлюхи не особенно выводили Тони из себя. Хотя о большей части его приключений он никогда не рассказал бы Свете. И даже необходимость быть одновременно зрителем и действующим лицом не казалась чем-то ужасным. Гораздо хуже было то, что Бернхард делал все не так. Не так, как сам Тони.
Смотреть на себя в зеркало и видеть чужое лицо, чужое тело — одного этого уже было достаточно, чтобы сознание выбивало предохранители. Но изо дня в день терпеть чужие жесты, мимику — вот что было адом. То, как Бернхард держал ложку, гребень, перо, как брился и мылся, не говоря уже о более интимных вещах, — все это причиняло Тони настоящие страдания, и привыкнуть к этому было невозможно. Словно какой-то невидимый надзиратель насильно заставлял его все делать по-другому: есть, смеяться, сморкаться, подтираться — и так далее, до бесконечности.