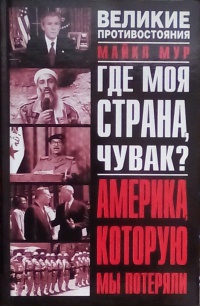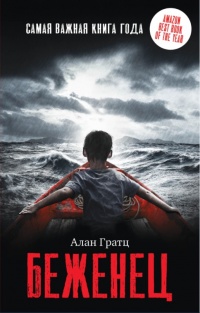Книга Отец и мать - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды к Пасковым пришла старуха Пелагея.
Екатерина в сумерках стылого, завывающего февральского вечера возвращалась домой с фермы и в потёмках по-за поленницей приметила ворохнувшуюся в её сторону горбатую тень. Девушка испугалась, отпрянула, но, зоркая, разглядела сразу – это скрюченная летами и хворями, запорошенная позёмкой старуха Пелагея приподнялась с чурки, на которой, похоже, уже долго сидела. Застыла до того, что едва губы раздвинула. Закашлялась, ржавью засипела:
– Наконец-то, дева, дождалася тебя. Чую смертыньку свою, а потому приковыляла к тебе, – повиниться должно мне, удавку на душе моей ослобонить хотя бы на крошечку. Ещё по осени прослышала о твоей беде, да чаяла – лекаря ошиблись, авось, надеялась и Бога молила, обойдётся. А сёдни в сельпо бабы взъелись на меня: погубила-де ты, ведьма такая-растакая, девку. Едва не побили меня, кто-то в спину шпынул, кто-то плюнул вдогон. А лучше б было, отдубась они этакую тварь. Да чего там: убить меня мало, собаками затравить, четвертовать! Каюсь, дева: повинна и грешна я, что вытравила плод, непоправимый урон тебе причинила. Отговорить мне надо было тебя, такусенькую несмышлёнку, соплячку ведь ещё, прости уж. А то и к матушке твоей сходить: покалякали бы с Любонькой по душам, я ведь её сызмала помню, с родительницей ейной товарками мы были не разлей вода. Знаю, и все о том говорят, славная ты девка: и умница, и красавица, и труженица, и рукодельница, и норовом мягка и кротка, и косу не обрезала как другие шлынды, – дева ты, одно слово! Де-е-е-ва! Эх, счастья бы тебе выстелилось на цельную жизнь с Афанасием твоим. Хлопец он знатный, работящий, башковитый. В войну за дарма снабжал меня дичью, рыбки подбрасывал, лисьей шкурой однажды одарил. Всем селом боготворим его. Гордимся, что в городах он во всяких там академиях обучается. Чую, большим ему человеком быть. Но как же, родненькие, теперь-то вы? Матушка Афанасьева, слыхала я, взбеленилась супротив тебя: не нужна, мол, мне пустопорожняя невестка. Ай, ай, ай! Что же будет, как же вам пособить, деточки вы мои, какими словами и подношениями умилостивить судьбину! Прощения не прошу, потому как непростима вина моя перед тобой и людями, а вот так оно, додумкалась я, оно вернее будет, по-божескому.
И она повалилась перед Екатериной на колени, губами – по ступням её тыкаться, обутым в валенки.
– Что вы, бабушка, что вы! Встаньте, пожалуйста, не унижайтесь, – уже задыхалась слезами Екатерина, сражённая откровениями и скорбью старухи.
Попыталась поднять её, но силы оставили девушку, и она тоже свалилась на колени. Обняла старушку, и они вместе плакали, рыдали, и утешая друг друга, и поднимая глаза к небу, беспроглядному, задавленному тучами и мраком.
– Нет и не может быть вашей вины, бабушка, потому что сами мы решились. Не было бы вас – пошла бы я к другой. Не стойте на коленях, прошу.
– Я не только, дева, перед тобой преклонилась, а – перед всем Божьим светом, перед всеми людями, перед Переяславкой родимой, перед мужиками нашими, сгибшими на войне и покалеченными, перед всеми младенцами, коих я сгубила за свою долгую, но, разумею ныне, беспутную жизнь. Не утешай и не подымай меня, дева: дай помереть мне на сем месте, на коленях.
– Господь всемилостив, бабушка, – шепнула Екатерина, инстинктивно, как и мать её подчас, когда поминала имя Божье, оглянувшись: нет ли кого-нибудь поблизости, не слышат ли?
– Ай, как ты хорошо сказала. Не забыл бы Спаситель наш о тебе, дева, об Афанасии твоём, и пока жива я – молиться буду.
– Он и о вас не забудет, бабушка. Он же всемилостивый. Понимаете: всемилостивый!
– Конечно, конечно, дочка, всемилостивый. Но я-то уже отпетый человек, пропащая душа. Не надо обо мне помнить ни Богу, ни людям. Вычеркните меня из списка живших.
– Бабушка, бабушка! Какие страшные слова вы произносите!
Так разговаривали, приобнявшись, две женщины, младая, как распустившийся цветок под солнцем, и древняя, как обглоданное непогодами одинокое деревцо на пустыре, стоя на коленях друг перед другом во тьме и холоде, на промёрзшей земле, под ветром, невидимые никем из людей, но верящие, что Господь зрит их, внимает слова их и помыслы.
На непрестанный брех собак выглянула из сеней Любовь Фёдоровна – охнула, всполошилась. Раздетая, простоволосая, кинулась во двор. Вдвоём мать и дочь подняли в упорствовании зацепившуюся за слежалый, наледистый снег старуху, завели, уговаривая, всячески обласкивая, в дом. Поили чаем, потчевали припасами, все вместе всплакнули, попричитали, повздыхали, будто в комнате лежал покойник. Уже заполночь под руки увели стихшую, истомлённую Пелагею в хибарку её. Уложили в кровать, а предварительно затопили печь: в единственной комнатушке господствовала стынь. Разило нежилью; кроме сложенной из досок кровати, пары расшатанных стулье и стола ничего не было. С незапямятных времён обреталась старушка одна в этом полуразвалившемся, обнищалом домике на самой окраине села, на опушке таёжного чащобника, почти что в лесу, и жильё её величали домиком на курьих ножках, а саму обитательницу его – ведьмовкой, каргой. Судьба Пелагеи поистине была безрадостной, изломной: двоих сыновей и мужа не дождалась она ещё с Гражданской, а иного счастья не захотела, ещё будучи тогда довольно молодой и к тому же красивой женщиной; нового семейного гнезда не свила, хотя могла. Говорили, что любила она своего мужа столь страстно и верно, что не смирилась с приговором судьбы, отнявшей у неё и мужа и детей. Так и жила одна, одиноко, закрыто, даже отстранённо от людей и их дел; ни в колхоз не вступила, ни разу в общих новых праздниках не участвовала. Только и знали о ней, что бабам была мастерицей пособить, в знахарстве дюжа.
Через несколько дней соседи обнаружили Пелагею мёртвой в её жилище. Печь была нетоплена, холод – страшный, съестного – ни крошки. Одни говорили, что, мол, уморила себя голодом, другие – выпила какой-то травоядный отвар; судачил и даже злословил переяславский народец, не понимая старуху. Как жила, так и ушла от людей, – загадочно, тёмно, в одиночестве полном. Быть может, единственный человек, кто хотя бы немножко понял её и был готов к сочувствию и состраданию, была Екатерина: она догадалась, что душа у старушки была открытой, чтобы принять свет. И на похоронах Екатерина оказалась одной-единственной, кто плакал, впервые в своей юной жизни прикоснувшись к обжигающе ледяной тайне бытия, извечно замешанной на смерти. Почему старушка так жила и почему так умерла – кто теперь ответит, кто поможет понять? На поминках Екатерина услышала перешёпоты подвыпивших женщин: что, мол, когда-то судьбина жестоко обделила Пелагею, отняв у неё родных людей, и Пелагея в свою очередь сполна отыгралась за свои невзгоды и напасти, всю жизнь вытравливая зародышей, а может, и травя людей; даже случаи припомнили. «Глупые», – подумала о них Екатерина, вставая из-за стола и не желая слушать дальше и сидеть со всеми.
А ночью в постели затосковала, раздумалась и заплакала, давя дыхание, чтобы не заскулить: «Но если и я озлоблюсь на жизнь и судьбу? Бросит меня, пустопорожнюю, Афанасий, – и справлюсь ли я с ужасом одиночества? Ведь другого я никогда не смогу и не захочу полюбить!»