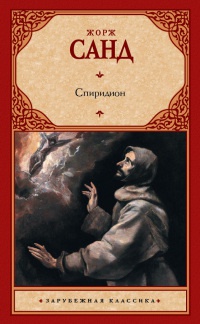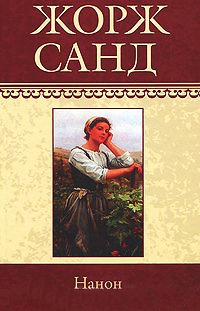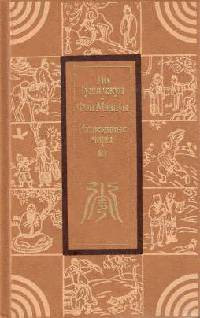Книга Свобода... для чего? - Жорж Бернанос
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это правда, что наше поражение в войне — подобно нынешней нечестивой конкуренции и продажности современных избирательных блоков — нанесло серьезный удар по престижу Франции. Но ведь то был, собственно говоря, не престиж Франции, а престиж французов; то был престиж несчастных, потерпевших поражение поколений. Что же касается престижа Франции, точнее, истории Франции и легенды о ней, то — сколь ни парадоксально это звучит — он рос и укреплялся по мере того, как снижался престиж французов.
Увы! Средний француз, тот, что никогда и носа не высунет наружу, охотно воображает себе, будто обитатели тех далеких стран, которые он даже не в состоянии толком разглядеть на карте, жили в блаженном неведении относительно вселенской драмы, первый акт которой только что был сыгран на территории Европы и развязка которой определит судьбу всего рода человеческого. Средний француз не знает и не хочет знать, что в такой, например, стране, как Бразилия, с ее многочисленными водопадами, нет ни одной затерянной на самом краю ойкумены деревушки, где не было бы электрического освещения, а с ним и миниатюрных телеграфных аппаратов американского производства. У какого-нибудь местного ливанца или сирийца имеется целый склад подобных устройств. Даже самые обездоленные оплачивают эти блага цивилизации при помощи векселей под совершенно ничтожные проценты. Конечно, аппарат доносит до них в первую очередь танцевальные и иные мелодии, но также и кое-что другое. Порой я задаю себе вопрос, не переживают ли обитатели этих медвежьих углов планеты вселенскую драму более остро, чем какие-нибудь французские крестьяне — жители деревень, глубже увязших в трясине черного рынка, нежели латиноамериканцы — в самом что ни на есть непроходимом экваториальном лесу. Ведь нет на свете худшего одиночества, чем одиночество эгоиста или скряги… Да, жители этих медвежьих углов более остро воспринимают вселенскую драму, нежели иные французские лицеисты… В самый канун войны я стоял рядом с бразильскими пастухами (vaqueiros), облаченными в разноцветные лохмотья, с кожаным лассо наперевес, с единственной шпорой, прикрученной веревкой к правому сапогу, и слушал речь Гитлера; не дождавшись ее окончания, я вскочил в седло и поскакал к своей небольшой ферме, располагавшейся в двадцати километрах. Дело было ночью, ужасно сырой и жаркой; по дороге я слышал яростный рык фюрера, доносившийся из крестьянских лачуг, столь убогих, что даже под потоками тропических ливней отец, мать и дети спят в них безо всяких одеял, вытянувшись рядком на слякотной земле.
Вы охотно верите или делаете вид, будто верите, что здесь — или там, или где-то еще, в общем, везде — каждый мечтает исключительно о куске мяса. Между тем, клянусь вам, есть миллионы людей, которых кусок мяса заботит гораздо меньше, чем вы думаете; то ли потому, что они уже давно привыкли обходиться без мяса, то ли — а это случается гораздо чаще — из-за того, что они страшатся гораздо более ужасных невзгод, нежели голод; невзгод, по отношению к которым мы уже почти не испытываем страха и которые мы воспринимаем крайне отчужденно. Следует признать, что подобный страх все-таки начинает пробуждаться в нас; он исходит из самых глубин нашей генетической памяти, когда мы становимся свидетелями все нарастающего авторитаризма со стороны власти, безымянной диктатуры силовых структур, зрелища гигантских концлагерей (в Германии и в России). Однако те, другие, живущие в своих убогих, с трудом различимых под пальмами лачугах, где хронический голод представляется естественной платой за собственную свободу, — они не так уж плохо разбираются в проблемах современного мира. Они неплохо понимают — много лучше, чем иные сочувствующие коммунистам церковники, — что новый мир, со всем его исполненным гордыни машинно-техническим фасадом, окажется даже хуже того дикарства, воспоминание о котором все еще сидит у них во внутренностях. Они понимают, что грядет эпоха полного отсутствия жалости к бедным, эпоха, единственным законом которой станет экономическая эффективность. Да, они лишь на расстоянии созерцали крушение Европы, но грохот падения надолго отозвался в их сознании. Они больше не верят в Европу, но еще верят в нас; они просят лишь о том, чтобы их вера — которую они неизменно, безоглядно и доверчиво лелеяли в себе по отношению к Европе — перешла бы на нас и только на нас.
Действительно, на протяжении многих лет наши противники в Европе старались представить нас этим людям как какой-то падший народ, неспешно и неохотно двигавшийся по пути прогресса; к тому же недавно этот хваленый прогресс споткнулся о гору трупов. Им хорошо известно, что прогресс этот — не наше изобретение, что совсем не о таком прогрессе вещали мы людям в ту пору, когда моя страна — на пике своего престижа и могущества — обратила к роду человеческому свое послание надежды и братства. Эти люди полагают, что Франция не успела еще произнести свое последнее слово. Что по своему произволению она может обратить против такого порядка, который на самом деле представляет собой диктатуру разбушевавшейся техники, огромные духовные ресурсы, накопленные ею на протяжении многих столетий; ресурсы, которыми Франция располагает и по сей день. Они говорят себе, что порядок этот Франции чужд; что Франция тщетно пыталась подчинить ему свободное дыхание своего национального гения и мало-помалу истощила свои силы в этой заведомо обреченной на поражение борьбе с самой собой; что ее историческая миссия отныне заключается в том, чтобы не только противопоставить этому порядку свой отказ от него, но и в том, чтобы измыслить какой-то новый порядок — да, измыслить новый, причем продумать его с тем восхитительным сочетанием ума и чувствительности, которое неизменно придавало жизненную силу новым идеям и приводило к истинной материализации мысли.
Вам не следует ни под каким видом считать, будто нынешние события превосходят человеческое разумение — как если бы у вас не оставалось иного выхода, кроме как претерпевать их… Не в том дело, что события приобрели большую, чем прежде, объемность; дело в том, что сами люди обесценились. Обесценивание человека — феномен, сопоставимый с девальвацией денег. Но не ждите, что обесцененные призна́ют свою обесцененность! Если бы банкнота в тысячу франков могла говорить, она заявила бы, что бифштекс сравнялся в цене с золотом — и никогда не осмелилась бы признать, что она сама девальвировалась и стала стоить не более ста су. Так и обесцененные люди предпочитают переносить свою месть на историю собственного обесценивания. Они все более склоняются к тому, чтобы отрицать историю, видеть в ней всего лишь совокупность исторических неизбежностей. Те, кто не осмеливается открыто призывать к марксистскому детерминизму — скажем, христианские демократы, — те ссылаются на «чаяния масс». Действительно, обесцененные политики, утратившие как совесть, так и отвагу, могут полностью потерять контроль над историей. Они виновны не столько в том, что не служили Франции, сколько в том, что не сумели воспользоваться ею, не сумели извлечь из этого потрясающего инструмента ни одной ноты, и это в столь судьбоносный для страны момент. Они продолжают по этому поводу свои распри, им бы хотелось в ущерб Франции оправдать себя, а ведь величайшие орга́ны нашей страны только и ждут легкого прикосновения дружеской руки к волшебной своей клавиатуре, чтобы зазвучать во всю мощь. И тогда их величественный глас вновь заполнит собой всю землю.