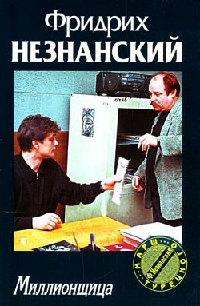Книга Чужие деньги - Фридрих Незнанский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сцены, разворачивающиеся на экране, становились все более мерзкими, и они происходили на фоне православных икон, точно таких же, перед которыми Питер читает молитвы утром и вечером, и Питер зажмурился, если уж некуда было отвернуться.
— Красивые ляжки, — хохотнул под ухом Билл, когда камера остановилась на раздвинутых ногах очередной фрейлины императорского двора. — Красивые русские ляжки, да?
Что произошло потом, даже сам Питер не понял, потому что дело происходило в темноте. Да, ему следовало сдержаться, но он не смог сдержаться и, не прицеливаясь, ткнул Билла кулаком в бок, а Билл под кулаком оказался тощим, как глиста, и неустойчивым, он повалился на барьер, одна колонна которого была надтреснутой, она и раньше плохо держалась, а веса Билла и подавно не выдержала, и от ее проволочной основы отвалился гипсовый кусок и, окруженный сухим, вызывающим чихание облаком, точно снаряд с, военного самолета унесся вниз, в публику, и там задел мисс Пруденс, которой на днях исполнилось семьдесят три года. Во время сеанса до Питера доносились каркающие реплики мисс Пруденс, которая тоже считала происходящее в фильме мерзостью, из-за этого Питер даже почувствовал к ней симпатию, которая прекратилась, стоило мисс Пруденс закричать. Она кричала таким голосом, словно ее ударили гипсовой колонной по голове, а всего-то ее обсыпало трухой, ну и порвало рукав, но она так закричала, что служащие кинотеатра просто не могли не остановить сеанс и не включить свет, чтобы выяснить, что за шум и с кем произошел несчастный случай. Ну и тогда, конечно, все выяснилось.
Питер больше всего волновался за Дейрдре: вдруг ее уволят? За себя он стал волноваться позже, когда полицейский вел его домой. И не зря, потому что этот разговор под зеленой лампой был одним из самых тяжелых в жизни Питера и его отца. Нужно было говорить правду, все как есть, они с папой никогда не лгали друг другу, а правда не получалась, точнее, она получалась болезненной и оскорбительной для Питера и для России, и Питер злился на папу сильнее, Чем на Билла Хармона. Хотя, в отличие от Билла, папа ни в чем не был виноват. Он был во всем прав, вот поэтому Питер и злился.
— Папа… — не выдержал Питер. В его детские виски впервые застучало что-то тяжелое и страшное. — Мы же американцы. Мы живем в Америке, мы лучше говорим по-английски, чем по-русски. Зачем нам эта Россия?
Питер сначала услышал звук, потом ощутил на лице ожог. Но, даже складывая эти два и два, он не мог поверить, что произошло невероятное: отец ударил его.
— Ах, значит, тебе не нужна Россия? — высоким, плачущим голосом выкрикнул Георгий Зернов. — А гы не нужен ей! И ни одной стране ты не станешь нужен, если будешь всю жизнь пресмыкаться перед мнением быдла, стыдиться своего происхождения, своей родины! И мне такой сын не будет нужен!
Недоверие сменилось чувством катастрофы. Папа никогда не бил Питера, никогда не повышал на него голос. Мама — другое дело: та, если ей попадешься под горячую руку, могла и отшлепать, и отругать, но позднее всегда приходила мириться и целоваться, и Питер знал, что эти мелочи жизни не стоит принимать всерьез. Но папа… Аптекарь, потомок русских дворян, был с сыном всегда ровен, разговаривал с ним без поблажек, поднимая до себя. Не исполнить данного папе обещания или солгать было стыдно — страшно стыдно, и худшим наказанием был стыд. Но то, что стряслось сейчас, было еше хуже. Что, если папа в самом деле от него откажется?
Питер не осмелился поднять руку к горящей щеке. Веснушчатое лицо Георгия Зернова покраснело, будто закаченная сыну пощечина отпечаталась на нем.
— Нет ничего плохого в русском происхождении, — уже спокойнее вымолвил папа. — Ты же знаешь, что в Америке есть еврейские землячества, итальянские, польские…
— Но итальянцы и евреи не враги Америки, — робко сказал Питер. Он облегченно перевел дух: если папа заговорил с ним, значит, вряд ли откажется. Возражать было страшно, но он предпочел бы новую пощечину суровому молчанию, за которым могли скрываться любые намерения. — А Россия — враг.
— Верно, враг, но почему? Все дело, Петя, не в национальном характере и не в языке, а в политической системе. Политическая система, которая сейчас властвует на нашей родине, враждебна не только американцам, французам, немцам, но и самим русским. Посмотри, ведь она лишила страну ее настоящего имени! Вместо «России» — «СССР». Погоди, настанут времена, когда это славное имя будет восстановлено. И тогда Россия и Америка больше не будут врагами. Готовься, это произойдет еще на твоем веку. И, надеюсь, ты будешь принимать в этом участие…
Лежа в своей комнате с погашенным светом, на боку, кверху ударенной щекой, Питер слышал слабо доносящиеся до него голоса родителей:
— Но это всего лишь детская шалость…
— Правда, Анночка, я вспылил, но не стыжусь. Если наш сын не научится отстаивать свои убеждения, он никогда не станет мужчиной…
…Просторная комната семинара художественной прозы была забита до отказа. Вообще-то мистер Баннер, написавший в прошлом толстый роман, которого никто не понял и который, вероятно, потому был высоко оценен критикой, не мог похвастаться высокой посещаемостью занятий. Зато один из его учеников, Питер Зерноу, прозанимавшись всего полгода, успел приобрести популярность. Весть о том, что Питер будет читать новый рассказ, собирала неплохую аудиторию. Он еще не посылал своих произведений в литературные журналы, но мистер Баннер считал, что, когда это произойдет, публикация восходящей звезде Зерноу обеспечена.
Самое примечательное, что рассказы Зерноу не отличались обилием фантастических деталей или авантюрным сюжетом. Секрет того, что они казались такими захватывающими, заключался в предельной достоверности изображаемых событий и чувств. Почти документальные, а возможно, на самом деле имеющие в основе реальные события, эти рассказы поражали множеством точных наблюдений, деталей, которые до Зерноу никто, по-видимому, не отважился описать. Тимоти понимал, что научиться так писать нельзя. Это особый глаз, с ним нужно родиться.
Тимоти Аткинс не очаровывался относительно своих литературных способностей, к тому же семейная стезя вела его в дипломатию, и он не видел надобности сопротивляться. Семинар Баннера он посещал в качестве не творца, а потребителя: ему нравилась атмосфера литературных споров, нравились желающие пополнить отряд писателей парни и девушки, с их горячностью и застенчивостью. Иной раз тут можно было услышать что-то стоящее, как, например, проза Питера Зерноу, с которым ему давно хотелось познакомиться поближе. Сегодня такая возможность представилась.
По-моему, — поднял руку Тимоти, когда Зерноу сложил, комкая, испечатанные на машинке листки, а Баннер, пожевав отвислыми губами, подал сигнал к обсуждению, — в рассказе интересно то, что к нравственному становлению героя приводит мелочь — нелегальный поход в кино.
— Это не мелочь, Тимоти, — отозвался Баннер. — Это ситуация нравственного выбора, с которой человек сталкивается на протяжении всей жизни…
— Я не совсем то хотел сказать. — Тимоти протолкался к Зерноу после выступления.