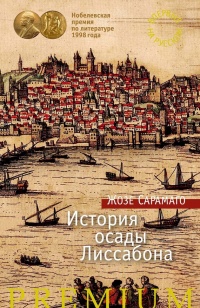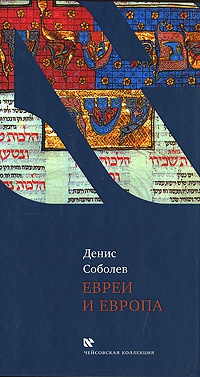Книга Реквием по Наоману - Бениамин Таммуз
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вначале Нааман был удивлен, и даже обрадован, представляя себе сплошной праздник, ожидающий его здесь. Опершись на каменный парапет, смотрел на воды реки, и они посылали ему свои негромкие голоса, высовывая язычки, говоря: глок-лак-лик-лок, не желаешь ли ты разделить с нами рок?
Камень под локтями говорил шорохом: аваш-ваш, все им отдашь, ступай по ступенькам вниз, под сводом, к водам, водам, водам.
Он двинулся вдоль домов, стоящих над Сеной, и вдруг дошел до его ноздрей запах еды, вкус которой он знал. Но кто варил для него эту еду? И не голод ощутил Нааман, а некое неясное томление, ностальгию, сосущую душу, и дрожь всеми фибрами тела. И он уже знал, что, войдя в стоящий перед ним переулок и повернув направо, окажется перед белым домом с красными ставнями, и на окнах второго этажа будут кружевные занавески, чуть закатанные, и знакомые лица будут выглядывать из-за их складок. Нааман пытался напрячься и вспомнить, чьи же это лица, и сердце его стучало в висках.
С шестого этажа он так и не сходил, а еду ему приносила домовладелица, как и было заранее оговорено. И он сидел у фортепьяно, играл и записывал ноты в тетрадь, и снова играл. Слезы текли по его щекам, но и кривая улыбка иногда появлялась на губах, ибо, слушая сочиненные им мелодии, он ловил себя на том, что они как бы кружатся вокруг одной, что он играл отцу на корабле, мелодии «Мой костер в тумане светит», которая как бы протягивает объятия в дальний край, расширяется, обнимает звезды в небе Иерусалима и возвращается в иное место, холодное, влажное, полное тумана, и звуки колокола раздаются за его спиной.
В один из дней послышался стук в дверь, и плотный человек с копной волос и крепкими плечами возник в проходе. Нааман смотрел на вошедшего человека и молчал. Он не испугался и ожидал, что тот исчезнет так же, как возник. Нааман собирался вернуться к мелодии и колоколу.
– Нааман, – спросил шепотом человек, – почему ты так на меня смотришь?
– Я играю, – ответил Нааман. – Я устал, а сейчас играл.
Фройке-Эфраим вызвал карету и повез сына к врачу, который выписал лекарства и уверил отца, что сын выздоровеет, у него нервное истощение, и неплохо было бы ему поехать немного на природу, пожить в деревне.
После этого отец повез сына в ресторан и заставил его съесть мясное блюдо со свежими овощами.
Вернувшись в комнату, отец рассказал, что расспрашивал во всех учреждениях еврейской общины в Лондоне, но так и ничего не узнал о Белле-Яффе, а сейчас, отсюда, он едет в Одессу. Дела в Лондоне были весьма успешны, там уже открыто специальное бюро Союза владельцев цитрусовых плантаций в Эрец-Исраэль.
Фройке-Эфраим обещал сыну скоро вернуться после посещения России и заставил его поклясться, что тот будет пить лекарства и гулять по бульварам и полям. Хозяйке дал подробные указания, какую еду готовить сыну, и прибавил ей плату.
Успех и удача благоволили Фройке-Эфраиму. В Лондоне устроили прием в его честь в доме Сионистского профсоюза и доктор Хаим Вейцман, обняв его за плечи, сказал собравшимся:
– Вот, господа, смотрите, каков облик нового еврея в Эрец-Исраэль.
Общественность вглядывалась в лицо Фройки-Эфраима и аплодировала.
– Эфраим Абрамсон, – сказал доктор Вейцман, – надежда и гарантия, которые дал сионизм еврейскому народу. Он первооткрыватель, крестьянин, обрабатывающий землю и видящий благословение в своем нелегком труде, гордый посланец, человек огромной силы, принесший нам запах земли, запах цветения цитрусовых. Но не только это он принес, но еще и решительное требование, которое он обращает к каждому из нас, поддержать всеми нашими силами усиление и укрепление еврейского сельского хозяйства в Эрец-Исраэль.
Многие подходили и пожимали руку Фройке-Эфраиму, а некоторые при этом добавляли, как бы между прочим, что рады будут встретиться с ним и обсудить ту цель, во имя которой он приехал сюда.
И возвращаясь из Лондона в Париж, Эфраим Абрамсон предвкушал, с какой радостью и удовольствием расскажет сыну об этой встрече в Лондоне, о приобретенном им высоком статусе и том уважении, которое отдают евреи рассеяния простому еврею из Эрец-Исраэль.
В Париже Эфраим Абрамсон был приглашен на обед к барону Ротшильду, где отведал удивительные блюда. И в Париже он продолжал безуспешно искать следы Беллы-Яффы, и решил неотлагательно ехать из Западной Европы в Россию, ведь Белла-Яффа была оттуда, быть может, вернулась туда и там он ее найдет.
В Одессе он нашел людей, знавших семью его первой жены, но отец и мать ее умерли, а брат уехал в Америку. О других членах семьи не знали ничего, кроме того, что дочь их вышла замуж за человека, уехавшего в Палестину много лет назад.
– Я и есть этот человек, – сказал Эфраим, – дочь их была моей женой, и я ищу ее.
Люди пожимали плечами и молчали. Но с того момента подозревали, что с Эфраимом не все в порядке и не стоит иметь с ним дело.
К счастью, дела свои он сделал с не евреями, власть имущими и портовым начальством, а на одесских евреев махнул рукой. Завершив дела, поехал поездом в Киев и Харьков, там тоже проживали некоторые из родственников Беллы-Яффы. В Киеве не нашел никого, а в Харькове обнаружил семью, занимающуюся мыловарением, в которой из трех братьев-компаньонов младший был женат на старшей сестре Беллы-Яффы.
Перед встречей с ней Эфраим посетил парикмахера, подстригся и попросил обрызгать волосы одеколоном, затем вернулся в гостиницу и облачился в черный костюм, в котором был на встрече с доктором Вейцманом в Лондоне. Перед зеркалом выпрямился в полный рост, оценивая себя со стороны, и, приведя мысли и чувства в некоторый порядок, удовлетворенный собой, пошел медленно-медленно к дому сестры Беллы-Яффы, стараясь, чтобы костюм не помялся.
Сестра бросилась ему на шею с поцелуями, хотя никогда его раньше не видела, приняла, как принимают близкого человека. Он еще рта не раскрыл, а она излила на него ушат сердечности, сделала ему выговор, что не заставляет жену, сестру ее, писать ей письма, хотя бы несколько слов, ничего не значащих, но несущих весточку о ее здоровье и делах.
– Может, азиаты вообще не пишут писем, – сказала она, – но вы же в конце концов европейцы, и даже если забыли какие-то правила, все же я ее сестра во плоти и крови, может ли она себя так вести, скажите, господин Абрамсон?
– Разрешите мне спросить, – сказал Эфраим, – когда вы получили последнее письмо от Беллы?
– Когда? – рассмеялась она, – может, лет двадцать назад? Да что я говорю? Более двадцати.
– И с тех пор ничего?
– Ничего. Об этом и речь, – вдруг изменилась в лице, – что-то случилось? Не нравится мне ваше лицо. У меня сердце обмерло.
Эфраим рассказал все, что знал, сестра Беллы сидела перед ним, скрестив руки, плакала слезами, запоздавшими на двадцать пять лет, слезами женщины, которые ничего не отняли и не добавили в душе Эфраима.
Прощаясь, обещал прислать фотографии детей, и сказал сестре Беллы: если когда-нибудь они задумают семьей переехать в Эрец-Исраэль, он поможет им основать мыловаренную фабрику, и это будет первая такая еврейская фабрика, как сказал пророк: «Готовясь к большой стирке, запасись мылом».