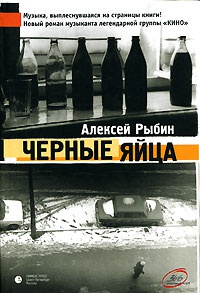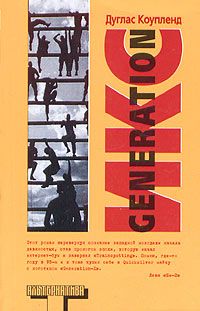Книга Когда умерли автобусы - Этгар Керет
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рентген показал смещение диска между позвонками L2-L3. Когда я посмотрел на снимок против света, я увидел что-то вроде темного пятна, смахивавшего на каплю кофе посреди прозрачного позвоночника. На коричневом конверте из-под снимка шариковой ручкой было написано: «Ариэль Фельдмаус». Никакого Марчело, никакого Сантини — уродливый корявый почерк. «Ты мог согнуть колени, — прошептал папа Луиджи и стер слезинку, сбежавшую по моей щеке. — Ты мог чуть-чуть их согнуть. Я бы ничего не сказал».
Я касаюсь ее рук, лица, волос внизу живота, рубашки. И я говорю ей: «Рони, пожалуйста, ради меня, сними». Но она не соглашается. И я сдаюсь, и мы делаем это снова — касаемся друг друга, совершенно нагие, почти нагие. И ткань ее рубашки — если верить бирке, из стопроцентного хлопка — должна казаться приятной на ощупь, но она колется. Нет ничего стопроцентного — так она всегда говорит, — только девяносто девять и девять десятых процента, за большее никто не может поручиться. Тьфу-тьфу-тьфу, постучи три раза по дереву, прямо сейчас! Я ненавижу эту ткань. Эта ткань колет мне лицо, эта ткань не дает мне почувствовать, насколько горячим становится ее тело, почувствовать, что она потеет. И я снова говорю: «Рони, ну пожалуйста». И мой голос оказывается изумленно-срывающимся, как если бы я пытался укусить самого себя с закрытым ртом. Я сейчас кончу, пожалуйста, сними. Она не соглашается.
Это безумие. Мы вместе уже полгода, а я ни разу не видел ее голой. Полгода, а мои друзья все еще твердят мне, что с ней не стоит связываться. Полгода, и вот мы уже живем вместе, а они упорно твердят мне одни и те же байки, давно вызубренные всеми наизусть. Как она ненавидела свое тело настолько сильно, что становилась перед зеркалом и пыталась отрезать себе обе груди кухонным ножом. Как ее клали в больницу, раз за разом. Они рассказывают мне о ней, как о постороннем человеке, пока пьют наш кофе из наших чашек. Говорят мне, что с ней не стоит иметь дела, — а мы любим друг друга, как ненормальные. Я их поубивать готов, но все-таки держу себя в руках; в крайнем случае я говорю, чтобы они заткнулись, и молча их ненавижу. Что они могут мне о ней рассказать, чего я сам не знаю? На что они могут раскрыть мне глаза, чтобы я стал любить ее меньше хоть на один грамм?
Именно это я и пытаюсь ей объяснить. Что ничего не имеет значения — связь между нами так крепка, что ее ничто не может разрушить, тьфу-тьфу-тьфу, — а потом, по ее требованию, я три раза стучу по дереву. Что я уже всё знаю, что мне всё рассказали, что не боюсь это увидеть, что это не имеет значения. Совершенно не имеет значения. Но нет, это не срабатывает, с ней ничего не может сработать. Она упирается. Дальше всего мы зашли после бутылки вина под Новый год[7]и даже тогда это была всего лишь одна пуговица.
После того как приходят результаты анализов, она звонит своей подружке, которая однажды через всё это проходила, чтобы выяснить подробности. Она не хочет делать аборт, я же чувствую. Я тоже не хочу, чтобы она делала аборт. Я так ей и говорю. Я становлюсь на колени, принимаю театральную позу и делаю ей предложение руки и сердца: «Ради Бога, сердце мое, девочка моя, — я пытаюсь говорить голосом героя-любовника, не знаю, насколько у меня это получается, — осчастливь меня в этот день, осчастливь меня в этот месяц, осчастливь меня на всю жизнь!» Она смеется, она говорит «нет». Она спрашивает: «Это из-за беременности?» — но и сама знает, что нет. Через пять минут она говорит — ну ладно, ладно, но при одном условии: если у нас родится сын, мы назовем его Йотам. Мы пожимаем друг другу руки. Я пытаюсь встать, но у меня занемели ноги. Рони, сердце мое, девочка моя, мои бедные ноги онемели от счастья, душа моя. Ты осчастливила меня на целый век.
В ту же ночь мы ложимся в постель. Мы целуемся. Мы раздеваемся. Остается только рубашка. Она отталкивает мою руку. Она расстегивает пуговицу. И еще пуговицу, медленно, как во время стриптиза, она прикрывает грудь одной рукой, а другой расстегивает пуговицу за пуговицей. Добравшись до последней пуговицы, она смотрит на меня, пристально смотрит мне в глаза, я тяжело дышу, она дает рубашке упасть. И я вижу, я вижу то, что под рубашкой.
Ничто не может разрушить связь между нами, ничто не может ее разрушить, — именно это я и говорил, — Господи, как я мог быть таким идиотом.
Она высказала ему это прямо в лицо, стоя на ступеньках синагоги. Сразу, как только они вышли, еще до того, как он успел спрятать кипу в карман[9]. Она вырвала ладонь из его ладони и сказала, что он скотина и чтобы он больше не смел так с ней разговаривать и тащить ее за собой, как будто она неживой предмет. И еще как громко сказала — так, что люди слышали. Люди, которые с ним работают, и даже рабби — но это не помешало ей повысить голос. Он должен был влепить ей пощечину прямо на месте, сбросить ее со ступенек. Но он, как последний идиот, ждал, пока они доберутся до дома. Когда он ее ударил, она выглядела такой изумленной. Как собака, которую бьют за дерьмо, наваленное на ковер, уже после того, как оно засохло. Он отвешивал ей короткие пощечины, а она кричала: «Менахем! Менахем!» — как если бы ее бил какой-то чужой человек, а его она звала на помощь. «Менахем! Менахем!» Она забилась в угол, «Менахем! Менахем!», и он двинул ее по ребрам.
Когда он отошел от нее, чтобы прикурить, он увидел кровавое пятно на туфлях, которые он всегда надевал в Йом Кипур[10], снова посмотрел на нее — и увидел красный полумесяц на платье, которое он подарил ей к празднику. Полумесяц превращался в луну — видимо, у нее шла кровь носом. Он притянул к себе стул и уселся на него — спиной к ней, лицом к часам. Он слышал, как она плачет, — там, за спиной. Слышал резкий вздох, когда она попыталась встать, и глухой удар, когда она снова сползла на пол. Стрелки часов двигались с опасной скоростью, он расстегнул впивающуюся в тело пряжку ремня, оторвал спину от спинки стула и подался вперед.
«Прости, — донесся ее тихий шепот из угла комнаты. — Прости, Менахем, я не хотела, прости меня». И они с Господом простили ее — в самый подходящий момент, всего за тридцать секунд до истечения срока.