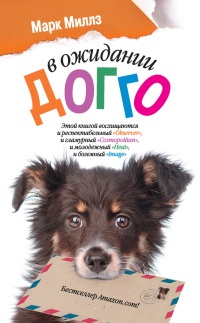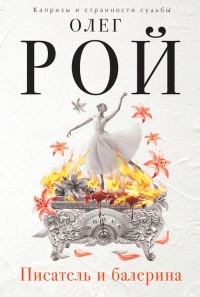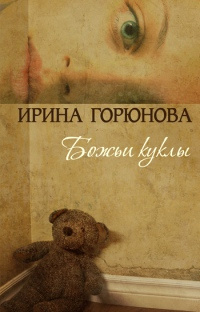Книга Пепел и песок - Алексей Беляков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы родились в Москве?
— А разве есть места, где можно еще родиться?
— К сожалению, есть.
— Вы не забыли про пиво?
— Нет, не забыла, — Ярославна ломает сигарету. — Вы какой-то неправильный сценарист. Зачем мне стали рассказывать про китайскую сорочку на набережной Круазетт? Тут так не принято.
— Да… Действительно…
Левой рукой я касаюсь волос на затылке, накручиваю на указательный палец промозглый локон. От жары забыл все уроки дорогой моей Ами. Она сейчас бы убила меня своей черной мраморной вазой.
Ярославна смотрит стрекозьими глазами — на меня и на весь окружающий нас опрятный хаос.
— Ну говорите! Для каких фильмов вы написали сценарии?
— А он всего один и есть пока. Короткометражный. Могу рассказать о нем. Это арт-хаус.
— Уууу… Нет, это совсем скучно.
— Тогда могу рассказать о режиссере Требьенове.
— А это кто еще?
— Сильвер Требьенов. Он мой старый друг. Сюда привез наш арт-хаус.
— Нет-нет, не надо. Пусть увозит.
— Почему? Сегодня мы пойдем по красной дорожке.
— Да? — Ярославна издевательски складывает все свои сладкие пожитки обратно в сумочку. — Знаешь, что я тебе скажу насчет дорожки?
Стоп! Оборвать.
Я отгоняю назойливый флешбек. Но он мерцает, мерзавец. Вспышка справа, вспышка слева. Нет, я не слышу слов Ярославны, бармен, громче музыку! Не слышу!
Да. Хорошо.
Еще водки. Все утопить.
Пока я в рапиде наливаю себе водки… В рапиде, Бенки, значит — в замедленной съемке. То есть мучительно долго протягиваю руку к графину, беру его за горло и душу. Душу, как нежный садист. После чего, преодолевая силу притяжения, все же отрываю от стартового стола и жидкость внутри колеблется, как мертвый глицерин… Пока все это происходит, пусть звучит за кадром мой тихий голос.
Тот фильм, снятый режиссером Требьеновым, получил в Каннах Приз симпатий кинокритиков развивающихся стран. Требьенов пытался убедить всех, что это победа. Угощал журналистов старым божоле, ласкал их своими глянцевыми глазами и журчал южнорусским говором:
— Напишите про мой фильм, мы должны прославиться. Это новое кино, вы же понимаете. Новое кино нужно поддерживать. Вы же понимаете. Понимаете?
Он со всеми был на вы, даже со спившейся Шах-оглы-Магомедовой. (Которая уже несколько раз ночевала на пляже в вечернем платье, потому что не могла вспомнить названия своего отеля. Почтительным служителям пляжа она кричала: «Не понять вам, суки, мою русскую душу!»)
Журналисты соглашались с Требьеновым, спрашивали о творческих планах и писали в своих заметках с фестиваля:
«Что касается дебютной работы Сильвера Гребенова, то уместнее всего показывать ее на масленицу в качестве первого блина».
Требьенов все равно продолжал подливать масла в божоле. Блудливая лимита.
ИНТ. ЗАЛ РЕСТОРАНА «ЕФИМЫЧ». ВЕЧЕР.
Так я написал на салфетке. Так в сценариях предваряют каждый новый эпизод. «ИНТ» — значит «интерьер». То есть сцена в помещении. Еще есть «НАТ» — это «натура». То есть сцена на свежем воздухе. ИНТ. И НАТ. Инь и Ян кинодраматургии.
Хотелось бы уже выйти на НАТ. Но водка удерживает своим сиянием.
Да, водка! Еще. Еще… Нет, не помогает.
Бесит, бесит. Как бы отвлечься от подлого флешбека?
Смотрю вокруг, беру панораму своим тревожным объективом.
Ах, чертовка! Она еще тут. Я вижу ту же девушку, она заплетает глупенькую косичку из пряди своих темных волос. А каков ее профиль? Она, кажется, слышит меня, поворачивает голову…
Жаль, ты на дворе, мой добрый Бенки. Лежишь под свежими липами и не можешь проникнуть сюда. Я бы отправил тебя с коротким письмом к этой девушке. В нем только вопрос: «Вы — Катуар?» И ждал бы ответа.
Еще водки. Еще лука. Пора! Надо действовать. Я напитался ароматами, и теперь чертовке от них не уйти.
— Вы позволите?
Сквозь алеф графина я вижу одутловатое лицо.
— Сергей Александрович? Сережа?
Есенин садится мне на колени:
— Зачем ты так наелся лука?
— А ты что тут делаешь, Сережа?
— Приехал сам Маринетти. Сейчас будет выступать.
— Ты же не любишь футуристов.
— Ненавижу. Но Сева позвал, сукин сын!
— Мейерхольд?
— Да, утром по скайпу.
Вокруг нас прогуливаются юноши с подведенными глазами, в цилиндрах, с лаковыми тростями. Требуют заказать им мохито. Сутулый Мандельштам, подняв подбородок, следит за плазменным экраном, где искрится матч «Челси» — «Тоттенхем». Лиля Брик, вскочив на стол, поднимает тяжелую юбку, демонстрирует толстые ноги и кричит: «Все на марш несогласных!». Алексей Толстой несет через зал книгу в обложке из свиной кожи, клоунски кланяется, просит всех оставлять автографы в его новеньком ноутбуке. На огромный барабан в центре этой дикой вселенной легко взбирается Маяковский и, простирая долгую руку, спрашивает: «Где же Маринетти с докладом о последней неделе моды?»
— Да-да! — нервно восклицает из угла Цветаева. — Где он? Что там в Милане? Мне совершенно нечего носить. Хоть в петлю лезь!
Есенин спрыгивает с моих колен:
— Тогда я пока буду читать стихи!
— Не хотим! — кричат юноши с подведенными глазами. — Хотим про моду!
Есенин хватает мой графин и бросает его об стену. Тут же дурной хор актеров из кабаре «Летучая мышь» затягивает частушки:
Жил на свете хипстер бедный,
Очень нервный и худой.
Нюхал кокаин целебный,
Пил мохитовый настой.
Начинается вакхический перепляс. Маленький злой пудель кусает танцоров за туфли. Мейерхольд ходит по кругу с большим медным подносом и, завывая, просит денег на постановку спектакля «Как я съел @».
Я расталкиваю 3D-безумцев и все ближе вижу лицо девушки с губами, которые можно надкусить, как дольку мандарина, и пить ночной сок. Лицо моей Катуар.
Меня обнимает пьяный Николай Гумилев:
— Сына моего читал, а?
— Пусти меня к ней, болван! Убирайся в Африку, на озеро Чад. Тискать девчат.
Вся серебряная кутерьма лихо сворачивается и пропадает в солонке, матерясь на прощанье. Я снова с графином, снова немного блаженный. Ах, водка, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я?
Выпиваю и знаю, что мне предстоит. Горького топлива на несколько метров мне хватит. Сейчас я доберусь до Катуар.
Кто это рядом? Утопить в шашлычном соусе!