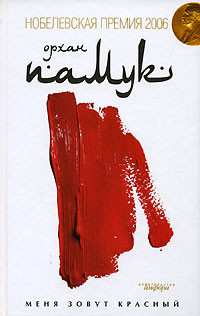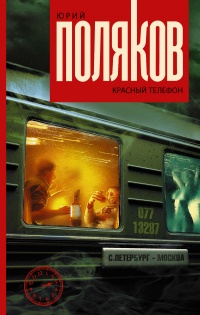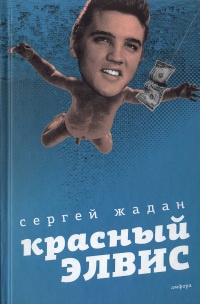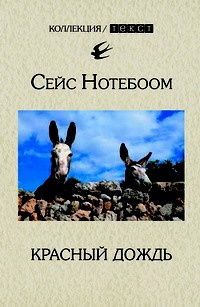Книга sВОбоДА - Юрий Козлов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прошло двадцать минут.
За это время можно было решить судьбу не только России, но всей человеческой цивилизации.
Телефон молчал.
— Он один в кабинете? — снова позвонил в приемную Вергильев.
— Так точно, один, работает, — доложил дежурный.
— Может быть, в комнате отдыха? — у Вергильева от стыда горело лицо, но он решил испить горькую чашу до дна.
— Никак нет, только что звонил, велел пригласить заведующую библиотекой.
Издевается, сволочь! — Вергильев снова поднял трубку прямого телефона.
Гудка не было.
Шеф отключил прямую связь со своим советником Вергильевым.
Бывшим советником.
Вергильев, как во сне, написал заявление об увольнении по собственному, отнес в приемную руководителя аппарата.
Через десять минут к нему пожаловал сотрудник из управления кадров с обходным листом. Там значилось четырнадцать позиций, по которым следовало отчитаться, но во всех отведенных квадратиках уже стояли подписи соответствующих мелких начальников, как если бы Вергильев уже всех их обошел и за все казенное имущество отчитался.
— Но я еще не сдал технику, — пожав плечами, расписался в обходном Вергильев. — Ноутбук у меня дома. Этот… как его… айпад в Кремле, а модемный блок… Разве у меня был модемный блок?
— Не беспокойтесь, Антонин Сергеевич, — радостно подхватил обходной кадровик, — доверие полное, сдадите, когда вам будет удобно.
— Отберут же на выходе сегодня удостоверение, — заметил Вергильев.
— А мы вам оформим временный пропусчок, — быстро предложил кадровик, — по предъявлению паспорта.
Вергильеву вспомнился депутат Думы первого, кажется, созыва, устроивший взрыв у себя в кабинете. Якобы политические враги хотели его убить. Все знали, что он это сделал сам, но как следователи ни бились, им ничего не удалось доказать. Тогда у депутата дома произвели обыск и обнаружили служебный ноутбук, который тот указал, как «безвозвратно утерянный» во время взрыва. За хищение государственной собственности его и посадили на три года. Вергильев, правда, не помнил, реально или условно.
Нет, подумал он, это не мой случай, они же расписались, как будто я уже все сдал. То есть, теоретически спрос будет с них, а не с меня. Значит, что-то другое.
Вергильев не сомневался, что скоро установит причину случившегося. Состоявшая из величайшего множества долговременных и вынужденных, а потому ненадежных, соединений, разнонаправленных крутящихся моментов, сложнейшей сенсорной электроники машина власти работала вне доступной пониманию логики. Иногда решения в ней вызревали долго, как кристаллы. Казалось, ничего уже не произойдет, но достаточно было какого-нибудь ничтожнейшего происшествия, чтобы дело пошло. Кристалл вдруг выламывался из раствора, обретал крепость и форму, вспарывал, как ветхую дерюгу, реальность, принимал «на рога» обреченных, возносил в горние выси оказавшихся в нужном месте в нужное время. Или некое слово, слетевшее с высочайших уст, пройдя через ряд приближенных ушей, вдруг превращалось в каленую оперенную стрелу, которая сбивала с коня вросшего в седло начальственного всадника, уверенного, что ему еще скакать и скакать.
А еще были специально обученные люди, чьей задачей как раз и являлось программирование нужных (тем, кто за это платил) решений. Вергильев доподлинно знал, что обговоренная на высшем уровне ветка газопровода через соседнюю страну не пошла только потому, что до руководителя той страны дошли слова другого руководителя про его жену: «Такой жопой можно и сваи забивать и трубы принимать». Может, он и не произносил ничего подобного, но это уже не имело значения.
Как объяснил Вергильеву знакомый специалист по этим делам, доктор Геббельс был не вполне прав, утверждая, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее верит в нее народ. Не все люди — идиоты, утверждал этот специалист, более того, большинство отнюдь не идиоты. Скрывать правду нет никакой необходимости. Но ее следует уподобить льдине, которая должна бесследно раствориться в кипятке спровоцированных эмоций. Правильно организованные эмоции, а вовсе не так называемая «правда» как раз и есть для толпы — «руководство к действию». Нет ничего проще, чем выставить честного человека лжецом, а благородного — подлецом, поскольку как индивидуальное, так и массовое сознание изначально враждебно добродетели. Христа обязательно распнут, объяснял специалист, а разбойника пожалеют, потому что ментально разбойник толпе ближе, а главное понятнее, чем Иисус Христос или любой другой правдолюбец. Не говорил, но мог сказать! Не напал, но лишь потому, что струсил. Не убил, но подговорил другого! Чем крупнее льдина — тем сильнее должна быть разогрета вода. А можно идти другим путем — начать безудержно кого-то хвалить, объявить его нравственным светочем, примером для подражания. Народ сразу возненавидит этого человека, подумает — вот сволочь! И… не ошибется. И вообще, заметил специалист, добродетель почему-то легче признается обществом за мертвыми, чем за живыми. К мертвым живые более великодушны, чем к другим живым. Половина так называемых «павших борцов», «символов эпохи» на самом деле никакие не борцы и не символы, а случайно или преднамеренно убитые люди.
Самое удивительное, что якобы бесследно растворившаяся в «правильно организованных» эмоциях льдина рано или поздно обязательно возвращалась из параллельного мира, озаряя окрестности поруганным праведным светом, но это уже мало кого волновало. Правдоискательство, еще недавно сотрясавшее общество, после выполнения (кем-то) поставленных задач, возвращалось на исходные позиции, а именно, в разряд беднейших (в прямом и переносном смысле) человеческих занятий.
Проехали.
И меня проехали, подумал Вергильев. Длинный коридор, по которому он шел, показался ему вагоном. Билет Вергильева был аннулирован. Его должны были высадить на ближайшей остановке.
Покидая кабинет, где он просидел почти два года, Вергильев задумался над словом «преданный». Иногда Господь Бог наделял некоторые слова высшим — исчерпывающим — смыслом, поднимал их, как мачты или транслирующие миру истину вышки, над болотистой равниной языка. Преданный человек был преданным одновременно в двух ипостасях. Он, как, к примеру, Вергильев своему шефу, был преданным кому-то, и при этом — без вариантов — всегда оказывался преданным этим кем-то. Поэтому, подумал Вергильев, когда о ком-то говорят, что он — преданный человек, следует уточнять, в какой стадии преданности он находится — еще предан кому-то, или уже предан этим кем-то?
Следующим словом, над этимологией которого задумался изгнанный со службы Вергильев, оказалось слово «верность». Оно извилистым ручейком вытекало из широкого, как река, слова «вера». Здесь допускалось расширительное толкование. Каждый человек самостоятельно отмерял себе уровень веры и — еще более самостоятельно — верности.
Вергильев (теоретически) мог пойти к врагам шефа. Их было немало. В российской политике после самоликвидации коммунистов велась исключительно внутривидовая — невидимая, но беспощадная борьба. Не за идеи (их не было, а какие были, о тех нельзя было говорить вслух), а за власть. Потому что власть в отличие от идей давала все и сразу. У Вергильева было, что предложить «однокоренным» врагам шефа, но он с порога отверг этот вариант. Предателей не просто не любят, их используют, превращают в инструмент, допустим, топор или лопату, выполняют с их помощью грязную работу, а потом оставляют в этой самой грязи, как некие предупредительные знаки. Их судьба печальна, как жизнь в сгоревшем лесу посреди болота без… топора и лопаты.