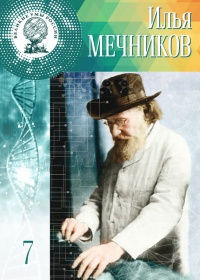Книга Джоаккино Россини. Принц музыки - Герберт Вейнсток
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Агуадо представил Россини своему знатному другу-священнику и государственному советнику, Мануэлю Фернандесу Вареле, горевшему желанием обладать автографом сочинения Россини. Он попросил Агуадо уговорить композитора написать лично для него «Стабат матер». Россини, восхищавшийся этой средневековой поэмой, положенной на музыку Перголези, не имел ни малейшего желания состязаться с последним. Но Варела проявлял такую настойчивость, что, не желая обидеть своего друга-мецената, он наконец принял заказ, но, однако, настоял, чтобы Варела пообещал ему никому не передавать этих нот и не публиковать их. Начал ли он писать музыку еще в Мадриде или подождал до возвращения в Париж, неясно, но он написал шесть наиболее важных частей. Затем, страдая от люмбаго, что удерживало его несколько недель в постели, он понял, что не сможет удовлетворить настойчивые требования из Мадрида – как можно скорее доставить «Стабат матер». Тогда он доверил написание менее важных частей своему другу Джованни Тадолини 9 , завершившему работу.
Автограф «Стабат матер» Россини-Тадолини был послан Вареле в Мадрид со следующей надписью на титульной странице: «Стабат матер», сочиненная специально для его превосходительства дона Франсиско Фернандеса Вареллы, кавалера ордена Большого креста Карлоса III, архидиакона Мадрида, главы [Священного] ордена крестоносцев, посвящается ему Джоакино Россини – Париж, 26 марта 1832». Варела не узнал, что его вожделенная партитура только частично написана Россини, которому подарил золотую табакерку, украшенную восьмью большими бриллиантами. Как позже стало известно, ее стоимость оценивается от 10 000 до 12 000 франков. «Стабат матер» Россини – Тадолини ставили всего лишь один раз: в Великую субботу 1833 года в королевской капелле Сан-Фелипе в Мадриде, в исполнении более ста певцов. Затем она не использовалась до смерти Варелы, последовавшей в 1837 году. Тогда исполнители его завещания – а он завещал свое огромное состояние бедным – продали рукопись за 5000 франков некоему Оллеру Четарду, который, в свою очередь, перепродал ее парижскому музыкальному издателю Антуану Оланье, таким образом запустив в действие взаимосвязанные волнующие события, которые со временем привели к созданию всецело россиниевской «Стабат матер».
Боли, вызванные люмбаго, продолжали мучить Россини и по возвращении из Мадрида в Париж в конце 1831 года. Он стал проявлять признаки нервного истощения, к тому же он страдал и от гонорейной инфекции. Тем не менее он оказался в состоянии пойти в «Опера» 21 ноября 1831 года и таким образом присутствовать при триумфе нового режима Луи Дезире Верона на премьере «Роберта-Дьявола» Мейербера. Он сразу понял значение этого события. Его отношение к вокальному стилю, используемому Мейербером, по всей вероятности, отразилось в том, что Азеведо написал о «Роберте»: «У нас нет необходимости оценивать его здесь, разве что во взаимосвязи с жизнью Россини; так что мы ограничимся тем, что скажем: исходя из того, как обходятся там с голосами, можно сделать вывод, что все результаты долгого и терпеливого труда автора «Вильгельма Телля» превратить актеров нашего главного театра в настоящих певцов были если не полностью разрушены, то в значительной мере уменьшены и скомпрометированы».
Таким образом, Россини стал свидетелем отхода от легкой, чувственной живости раннего романтического бельканто – движения, в котором здесь в Париже его собственные оперы на французские тексты сыграли роль своего рода преддверия. И хотя фиоритуры и другие важные элементы этого раннего стиля продолжали играть существенную роль в концепции оперного вокализма Мейербера, требования выносливости и полноты звука, которые он предъявлял певцам, были уже ближе к «Запрету любви», «Риенци» и «Летучему голландцу», чем к произведениям Чимарозы и Паизиелло, главным образом из-за его настоятельного требования (в чем преувеличенно обвиняли самого Россини), чтобы они пели в сопровождении большого драматического оркестра.
12 декабря 1831 года Фредерик Шопен написал письмо из Парижа своему другу Титу су Войцеховскому, сообщая тому о главных событиях парижской жизни: «С помощью Паэра, выполняющего здесь роль придворного дирижера, я познакомился с Россини, Керубини [Пьером Мари Франсуа де Сальс], Белло и т. д., а также Калькбреннером... Труднее всего здесь найти женщин-певиц [Шопен хотел дать концерт]. Россини предоставит мне одну из [итальянской] оперы, если сможет это организовать без участия месье Робера, помощника дирижера, которого не хочет задевать множеством подобных просьб. Но я еще ничего не рассказал тебе об опере. Я никогда по-настоящему не слышал «Цирюльника» до прошлой недели, когда его исполнили Лаблаш, Рубини и Малибран Гарсия. Не слышал я и «Отелло» до тех пор, пока не услышал его в исполнении Рубини, Паста и Лаблаша. Это касается и «Итальянки», которую, наконец, услышал в исполнении Рубини, Лаблаша и мадам Рембо».
Шопен сообщает удивительные новости: «Малибран исполняла роль Отелло, а она [Шредер-Девриент] – Дездемоны. Малибран маленькая, а немка огромная, казалось, будто эта Дездемона задушит Отелло... [«Роберт-Дьявол»] это шедевр новой школы, в котором дьяволы (большие хоры) поют в рупоры и души встают из могил... В конце спектакля в диораме вы видите интерьер церкви, всей церкви, в день Рождества или Пасхи, ярко освещенной, с монахами, с прихожанами на скамейках, с кадилами и даже с органом, который звучит на сцене изумительно и чарующе, почти заглушая оркестр. Ничего подобного невозможно было бы поставить где-либо еще».
С февраля, а особенно с мая по сентябрь, Париж охватила эпидемия холеры. Вскоре после исполнения в феврале «Пирата» Беллини театры опустели. Россини, все еще не вполне здоровый, спасаясь от эпидемии, уехал с Агуадо в Байон, где ему было смертельно скучно. Он счел Южную Францию более привлекательной, когда летом вместе с семьей Агуадо приехал во французскую часть Пиренеев. Эдуард Робер, стремясь заманить его обратно в Париж, написал ему 12 сентября, что эпидемия затухает и он может, не опасаясь, вернуться. В тот же день Буальдье написал в своем письме: «Я рассчитываю встретить Россини в Тулузе, где он проводит время с семьей Агуадо, которые берут его повсюду с собой, и это ничего ему не стоит. Он чрезвычайно счастлив!» Но Россини не был счастлив, состояние его здоровья ухудшалось, вселяя тревогу. Он вернулся в Пти-Бург вместе с семьей Агуадо в начале октября.
К этому времени Россини нуждался в сочувствующей постоянной сиделке и прислужнице. Он нашел таковую (а возможно, одновременно и любовницу) в лице Олимпии Пелиссье, тридцатитрехлетней женщины, с которой, по всей вероятности, познакомился в Экс-ле-Бэне 10 . Дочь незамужней женщины, Олимпия родилась 1797 году и сначала носила имя Олимпия Луиза Александрина Дескюйе, но после того, как ее мать вышла замуж за человека по имени Жозеф Пелиссье, удочерившего девочку, ее стали звать Олимпия Пелиссье. Покойный Франко Шлитцер писал, что мать «не видела для своей дочери «лучшей доли, чем находиться под чьим-либо покровительством», в том смысле слова, который в старинной галантной терминологии означает кокотку. Еще с детских лет она приводила к девочке «покровителей», которых девочка всегда принимала враждебно, без какого-либо трепета любви, без изъявления согласия, а только для того, чтобы извлечь выгоду из их денег и добиться «положения». В этом она вполне преуспела, не будучи по природе ни экстравагантной, ни капризной, ни любительницей роскоши; в отличие от большинства женщин подобного сорта она была бережливой и хорошей хозяйкой». Эдуард Робер, которому нравилось общаться с Россини по-мужски в отсутствие Изабеллы, был недоволен, когда Россини обрел защиту в лице новой спутницы: он называл Олимпию «madam Rabatjoie № 2» (вторая миссис Брюзга).