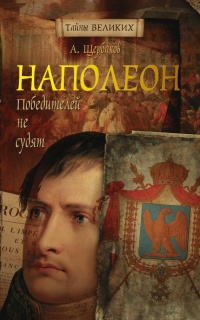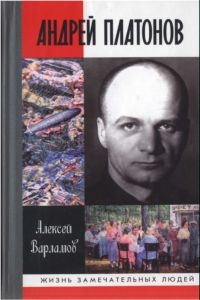Книга Шукшин - Алексей Варламов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шукшин никогда об этом прямо не писал, но можно предположить, что идеалом общественного устройства была для него вольная Русь, Беловодье, которое много веков искали на Алтае предки его земляков. И в этом смысле Василий Макарович был человеком утопического склада мышления, долгое время верившим в то, что народ способен сам, без государства, без чиновничества, без царя, без Церкви, устроить жизнь на разумных началах, если ему не станут мешать. (И к слову сказать, географический фактор тут играл свою роль: Алтай в силу исключительного природного, климатического положения, удаленности от центра был территорией самодостаточной, нуждавшейся в государстве гораздо меньше, чем зоны рискованного земледелия, голодающие губернии или пограничные с Западом области, без государства прожить неспособные и хорошо отдающие себе в том отчет.)
В то же время, не будучи даже в малой мере диссидентом ни на западный, ни на русский манер, Шукшин не держался в стороне от тех вопросов, что обсуждались тогда на московских и ленинградских кухнях. По воспоминаниям Анатолия Гребнева, в Доме творчества Союза кинематографистов в Болшеве они вместе включали старенькую «спидолу» и слушали западные радиостанции, а потом обсуждали услышанное, о тех же вражьих голосах свидетельствует Анатолий Заболоцкий. Об откровенных разговорах с Шукшиным (беседах, как он это называл, к которым допускал людей не сразу, а только хорошенько их разузнав) вспоминала редактор «Калины красной» Ирина Сергиевская, а среди так называемых «Выдуманных рассказов» Шукшина есть практически диссидентский про сельского мастера радиоузла, который случайно включил на всю округу Би-би-си: «Пока, говорит, я ее свихнул в сторону, время прошло. Лишили 13-й зарплаты, дали выговор… Фронтовик, 4 класса образования, носит сталинский френч».
Шукшин читал разнообразный самиздат от книг Авторханова и Бердяева до «Протоколов сионских мудрецов», о чем писал Белов: «Глаза открывались медленно, ведь мы почти ничего не знали. Проходили отдаленные слухи о ленинградских юношах, создавших ВСХСОН — тайную организацию с христианской идеологией. Шукшин жадно ловил эти слухи и делился ими со мной и Анатолием Заболоцким. Попадал к Макарычу и журнал В. Осипова “Вече”[30]. Какая-то дама, вроде бы жена Фатея Яковлевича Шипунова, встретила нас на лестнице студии имени Горького. Она заговорила о журнале “Вече”. Но мы оба, боясь провокации, откровенными с ней не стали. Фатей был странным сибиряком и отпугивал шумной своей откровенностью. Владимир Осипов тоже ведь был откровенен, и, может, зря мы боялись распространителей журнала “Вече”? На Руси уже тогда имелись смелые, мужественные, не подставные ее защитники. Правда, почти все из них сидели по тюрьмам… Макарыч безжалостно тратился на фотокопии недоступных простому читателю книг, таких, как авторхановская “Технология” или книги В. В. Розанова, талантливейшего, несколько демонического представителя русской журналистики. Даже “Историю кабаков” Макарыч вынужден был переснимать, не говоря о более серьезной литературе. Он жадно поглощал запретные тексты, отснятые на фотобумаге мелким, вредным для глаз шрифтом. Многим из нас такой шрифт основательно портил зрение. Книг не было!»
Анатолий Заболоцкий очень красочно написал в мемуарах о том, как Шукшин однажды чуть не попался на провозе нелегальной литературы из-за границы: «…Шукшин с Федосеевой отбыли за рубеж. Среди других мероприятий там случилось и посещение квартиры слависта, преподающего русскую литературу. Во время традиционного застолья хозяин пригласил Макарыча в свою библиотеку и любезно предложил осмотреть, а если что заинтересует, отложить. Макарыч пробыл там остаток вечера, глаза разбегались от одних названий. Отобрал стопку. Никаких денег, конечно, с него не взяли, так что с десяток книг он унес с собой. “Возвращались, как и приехали, поездом. Несколько границ пересекли, в купе заглядывали стражи границ, а когда въехали в Польшу, меня охватила тревога, — рассказывал Макарыч. — Покрутился, покрутился в тамбуре (ночь была), собрал эмигрантскую пачку да и выбросил. А там были: ‘Красный террор’, Мельгунов, Краснов, Ильин, Авторханов, конечно, Бунин. Вырвал только коротенький бунинский рассказ ‘Гимн’ и спрятал в карман рубашки. В Бресте появились пограничники, а вслед за ними таможенники, весь вагон прошли махом, а в наше купе зашли и как начали шерстить, все исподнее белье переворошили тщательнейшим образом. Явно ищут, зная, что есть. Я побелел, — вспоминал Макарыч, — и тут же возрадовался. Недовольные, покинули купе”.
А не выброси он книги, стал бы навсегда невыездной. И попробуй догадайся, кто заложил: хозяин дома или кто из кинематографистов-попутчиков?»
Однако невыездным он мог стать и без этого. Василий Макарович в отличие от многих своих коллег, похоже, вообще не очень дорожил правом выезжать за пределы СССР и еще в 1967 году, вернувшись из Югославии, писал Белову: «Кажется, это последний раз, что меня посылают за границу. Я перепутал Белград с Тимонихой. Ну и черт с ними! И в России места хватит». Тем не менее за границу его пускали, и не раз, а были ли специальные службы осведомлены о подлинных шукшинских настроениях, следил ли кто за ним, стучал ли на него — все это пока что неизвестно, хотя наверняка в закрытых архивах Лубянки многое можно сыскать, и недаром, по воспоминаниям Белова, любимый анекдот Шукшина был такой: «Сибирский мужик стоит у газетного щита, читает заголовки, перетаптывается, ярится, негодует вслух: “Ну, гады, ну, жмут! Ну, жмут, мерзавцы!” Милиционер кладет сзади руку на плечо мужика: “А ну, пошли… Скажешь, кто тебя жмет…” — “Да сапоги жмут! — обернулся и чуть не завизжал мужичок. — Так сжали — никакого терпенья”. Милиционер убрал руку с плеча и пошел прочь. “А я знаю, на кого ты подумал!” — крикнул мужик вдогонку». А в рабочих записях Шукшина встречаются такие рассуждения: «Истинно великих людей определяет, кроме всего прочего, еще и то, что они терпят рядом с собой инакомыслящих. Гитлер и Сталин по этой статье не проходят туда».
В этом смысле он как будто бы не отличался по привычкам и убеждениям от представителей «лучшего слоя страны» — как назвал в свое время русскую интеллигенцию Михаил Булгаков, но был гораздо глубже, резче, радикальнее, что с замечательной точностью сформулировал Анатолий Гребнев: «…в его отношении к властям не было интеллигентского брюзжания, свойственного всем нам — кому в большей степени, кому в меньшей. Он не брюзжал, не насмешничал — он ненавидел. Были три объекта ненависти, три предмета, по поводу которых, если заходил разговор, он не мог рассуждать спокойно: это, во-первых, разумеется, колхозы, во-вторых, чекисты, и в-третьих, как ни странно, великий пролетарский писатель Максим Горький. “Ну что уж ты так к нему прицепился”, — заметил я однажды. И услышал в ответ: “Это он, сука такая, внушил Сталину, что крестьянство — слепая стихия, которую надо укротить”. Не знаю, где он это вычитал, но был в этом уверен, крестьянство же, судьба крестьянства была его непреходящей болью, но это, наверное, факт общеизвестный».