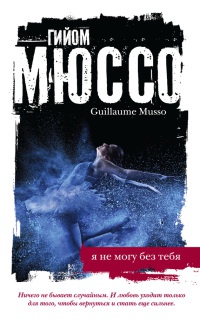Книга Часть целого - Стив Тольц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Марти, ты здесь? Или я говорю с пустой квартирой?
Я выбежал в гостиную.
— Ах это ты! — И прежде чем я, как всегда опаздывая, сумел попросить: «Не надо», нацелился висящим на шее «Никоном» и щелкнул меня.
Эдди был помешан на фотографии и не мог прожить пяти минут, чтобы не сделать моего снимка. Он умел делать много дел одновременно: смотреть в видоискатель «Никона», курить, снимать и приглаживать волосы. Он говорил, что я фотогеничен, а я не мог его опровергнуть — он ни разу не показал результатов съемки. Я даже не знаю, проявлял ли он пленки, и даже — заряжал ли фотоаппарат. Это была еще одна сторона его патологической таинственности. Он никогда не рассказывал о себе. Не говорил, чем занят целый день. И вообще был ли у него этот день. Он был отстранен душой и телом.
— Как отец? Крутится?
— Эдди, ты знал мою мать?
— Астрид? А как же. Конечно, знал. Какой позор!
— А что? Я не знаю.
— В каком смысле?
— Расскажи мне о ней.
— Хорошо.
Эдди плюхнулся на диван и похлопал по соседней подушке. Я, волнуясь, прыгнул на нее, еще не представляя, насколько не удовлетворит меня разговор: предвкушая беседу, я совсем забыл, что Эдди считался самым худшим на свете рассказчиком.
— Я встретил ее в Париже вместе с твоим отцом, — начал он. — Наверное, это была осень, потому что листья успели побуреть. Мне нравится, как американцы называют осень — fall, падение… И сама осень мне нравится. А также весна. А лето терпеть не могу — три дня еще выдерживаю, а потом впору забираться в морозильник для мяса.
— Эдди…
— Извини, я отвлекся. Хотя еще не сказал, как отношусь к зиме.
— Давай о моей матери.
— Хорошо, о твоей матери. Она отличалась красотой. Не думаю, что она была француженкой, но имела такое же физическое строение. Все француженки миниатюрные, худощавые и с крохотным бюстом. Если нравятся крупные груди, придется пересечь границу Швейцарии.
— Отец говорил, вы познакомились с ней в Париже.
— Правильно. В Париже. Очень скучаю по Парижу. Ты знаешь, что во Франции другое слово, если надо сказать, что тебе что-нибудь противно? «Гадость» не подойдет. Они говорят berk — «фу». Странно. То же самое, если ударишься, — кричат «ай!», а не «ой!».
— Что мой отец делал в Париже?
— Тогда — ничего, как, собственно говоря, и теперь, только в то время он занимался этим во Франции. Хотя не совсем ничего. Писал заметки в маленькую зеленую тетрадку.
— Все тетрадки отца черные. Он никогда не пользуется другими.
— Та была определенно зеленой. Могу легко ее представить. Плохо, что ты не способен видеть картины, которые сейчас кружатся у меня в голове. Они чертовски яркие. Вот бы иметь возможность проецировать их на экран и продавать билеты. А цену назначишь по своему усмотрению.
Я встал с дивана, сказал Эдди, чтобы он продолжал без меня, и пошел в спальню отца. Там я долго стоял в дверях, глупо вглядываясь в царивший в комнате хаос и беспорядок, который то ли скрывал, то ли нет историю моей матери в зеленой тетрадке. Обычно я не вхожу в спальню отца по той же причине, по которой люди не врываются в туалет поболтать с находящимся там человеком, но в данном случае были веские основания нарушить правила. Я вступил в отверстый кишечник отца, эту ошеломляющую бурю в пустыне; спать здесь было само по себе достижением.
Я приступил к делу. Прежде всего мне предстояло проложить дорогу среди желтых подшивок газет, размерами соперничающих с теми, что собраны в публичной библиотеке. Они возвышались на полу, лежали по углам и устилали весь пол к кровати. Я шел по газетам, перешагивал через предметы, которые отец не иначе как вытащил из мусорных баков и человеческих ртов. Мне попадались вещи, которые я считал давно пропавшими: томатный соус, горчица, чайные ложки, суповые ложки и глубокие тарелки. В одном из шкафов под кипой одежды я обнаружил первую стопку тетрадей. Их тут была целая сотня, но все черные. Черные, черные, черные. Во втором шкафу лежала еще одна сотня, но все, к моему разочарованию, тоже черные. Я влез в шкаф, он оказался очень глубоким. Там валялись журналы, но я не хотел тратить на них время. Из всех фотографий отец зачем-то вырезал глаза, но я не стал об этом размышлять. Человек, читая журнал, вправе избавиться от глаз, если ему кажется, что они слишком нагло на него таращатся. Разве не так? Я оставил журналы в покое и пополз дальше в глубь шкафа (да, этот шкаф оказался в самом деле необъятным). Там обнаружилась коробка, в которой хранились еще одна стопка тетрадей и все вырезанные из журналов глаза. Пока я возился с тетрадками, глаза безжалостно сверлили меня взглядами и, мне показалось, изумились вместе со мной, когда на дне под картонным клапаном я нашел зеленую.
Я схватил ее и бросился вон из удушливой комнаты. В гостиной Эдди все еще беседовал сам с собой. Я отправился к себе изучать находку.
Края тетради были потерты. Чернила местами выцвели, но не настолько, чтобы трудно стало разобрать написанное. Почерк менялся от мелкого, аккуратного к крупному, с чудинкой, на последних страницах текст шел по диагонали, казалось, автор писал его, сидя верхом на верблюде или устроившись на носу корабля во время качки в плохую погоду. Некоторые листы едва держались на скрепках, и когда тетрадь закрывали, углы высовывались, как закладки.
Надпись на титульной странице была по-французски: «Petites miseries de la vie humaine». Что не означало «небольшие несчастья», как я сначала решил, а переводилось примерно как «Мелкие досадные неприятности человеческой жизни». Меня затошнило, и это наилучшим образом подготовило меня к рассказу о том, как я появился на свет, — к рассказу, помещенному в эту тетрадку. Я перепечатываю его здесь, чтобы вы с ним ознакомились.
Petites miseries de la vie humaine
11 мая
Париж — идеальный город, чтобы почувствовать себя одиноким и несчастным. Лондон же слишком мрачен — в нем никак не получится с достоинством ощутить себя полным лохом. Ах, Лондон! Зловещий город! Холодное, серое облако! Обволакивающий туман и мгла! Душный стон! Одинокий вздох до головокружения! Мелкая генная лужа! Карьерный город! Ломкий и распадающийся на куски! Падшая империя! Город с третьей страницы[23]! Урки Лондона — вовсе не знойные, они холодные и занудливые.
А Рим? Полон сексуальных хищников, живущих с собственными матерями.
Венеция? Слишком много туристов — таких же тупоголовых, как те верующие, что кормят итальянских голубей, хотя в родном городе они их просто не замечают.
Афины? Повсюду снующие туда-сюда конные полицейские, останавливающиеся лишь затем, чтобы лошади навалили на булыжную мостовую. Навоз лежит столь огромными кучами, что невольно думаешь: нет лучшего послабляющего, чем охапка сена.