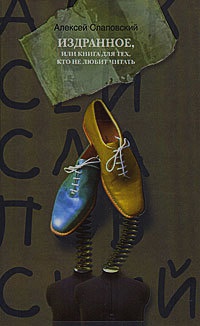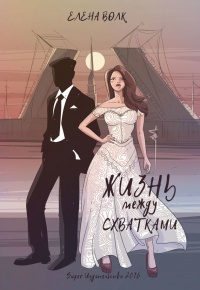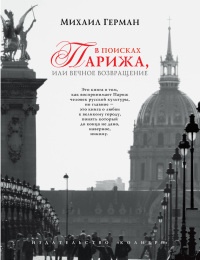Книга Всех ожидает одна ночь - Михаил Шишкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне пришла вдруг в голову мысль, от которой меня прошиб пот: ведь это Ситников сам, чтобы отвести от себя подозрения, свалил все на меня! И потом та страшная поездка в сырой апрельский лес не выходила у меня из головы. В ту минуту я мог думать о людях уже все что угодно. Мне казалось, что каждый способен на любую подлость, только бы спасти себя.
И потом, был ли я так уж невиновен, вдруг эта мысль поразила меня. Ведь я же разговаривал со Степаном Ивановичем, он открылся мне, звал меня с собой.
Среди ночи меня вытошнило. Я разбудил Михайлу, велел ему все убрать, а сам растворил настежь окно, лег на подоконник и долго не мог отдышаться. У меня были спазмы в горле, мне не хватало воздуха, я задыхался.
Я не мог забыться в ту ночь ни на минуту, до самого рассвета.
В комнате было уже светло, только что взошедшее солнце бросало косые лучи на обои, когда мне пришла в голову мысль, от которой неожиданно стало ясно и покойно.
То, что минуту назад казалось неразрешимым, невозможным, вдруг сделалось простым и само собой разумеющимся. Помню, что я даже рассмеялся — так легко и свободно стало у меня на душе. Я удивился, отчего эта мысль не пришла ко мне с самого начала.
Было еще очень рано, около половины пятого, и я заснул мгновенно и без снов, лишь голова моя коснулась подушки.
Я проспал, может быть, всего часа три, не больше, но встал бодрым и свежим. С удовольствием умылся ледяной водой, долго плескался. Надел чистую белоснежную сорочку. После завтрака выкурил трубку у открытого окна, глядя на нагромождения облаков над Казанкой. Ветра не было, и сутулый мундир Нольде висел во дворе не шевелясь.
Я вышел из дома заранее, чтобы идти не спеша и в назначенный срок быть у Булыгина.
Это было странное ощущение.
В огромном темном зеркале я вдруг увидел немолодого уже человека с брюшком, с опущенными, выставленными вперед плечами, начинающего лысеть на затылке, с кое-где пробивающейся сединой, сидевшего на краешке стула. Он схватил поднесенный ему стакан воды и долго пил его. Руки тряслись, и вода проливалась на брюки.
— Да вы не волнуйтесь так, — сказал Маслов. — Вот возьмите лист бумаги, садитесь за стол и все-все напишите.
Маслов дал мне несколько листов бумаги, пододвинул чернильницу, подобрал отточенное перо.
И я стал писать.
Я писал все, что знал и про Степана Ивановича, и про наши с ним разговоры, как мы спорили с ним, как я убеждал его отказаться от пагубных его затей, и про Ивашева, и про ревельские воды. Я старался ничего не опустить, ни малейшей подробности. Я писал сумбурно, без всякого порядка. Я писал всю правду.
Да-да, я писал всю правду, но я пытался и спасти его.
Я пытался объяснить: все, что делал этот человек, есть не столько преступление даже, сколько заблуждение. Именно заблуждение, ибо помыслы его были благородны. И потом, нужно было понять его состояние. Это было ослепление, надрыв. Все сплелось здесь в один клубок: и досада за неудачную службу, и приступы жестокой лихорадки, привезенной с Дуная. Конечно, писал я, всему причиной была болезнь. К тому же он сам рассказывал мне, что мать его кончила дни свои в доме для умалишенных. Без сомнения, нервная болезнь, помутнения разума передались и ему по наследству. Разве не горячечный бред его безумная идея сражаться бок о бок с поляками против соотечественников? Нет ни малейшего сомнения, писал я, что он сумасшедший. Не преступник, а сумасшедший.
Я исписал всю бумагу, которую дал мне Маслов, попросил еще и все не мог остановиться.
Маслов, сказав, что не будет мешать мне, вышел, и из соседней комнаты время от времени доносился его кашель.
Исписанные перья пачкали чернилами бумагу, я бросал одно, хватался за другое. Строчки разбегались вкривь и вкось. Я спешил, писал, не промокая клякс, не понимая, сколько прошло времени, час, а может быть, целый день. Солнце залило стол, я обливался потом, но мне некогда было задернуть шторы.
Помню, что я очень устал. Дело было не в руке, которая ныла. Когда я собрал все исписанные мною листки и протянул их Маслову, меня охватила какая-то апатия. Вдруг заболела голова, сильно застучало в висках — сказалась бессонная ночь. Без сил я уселся на диван и прикрыл глаза.
Маслов читал написанное мною долго, не спеша, переспрашивая меня в тех местах, где был неряшлив почерк, делая карандашом на полях какие-то заметки.
Он читал в очках и часто снимал их, разглядывая стекла на свет, дышал на них, протирал фуляровой тряпочкой.
— Вы не верите мне? — спросил я, когда он дочитал до конца.
Маслов усмехнулся.
— Отчего же, верю. Более того, скажу, что бумаги эти для вас значат больше, чем для меня.
— Простите, я не совсем понимаю…
— Что ж здесь не понять? На почте мне удалось перехватить письмо, отправленное им. Теперь я вижу, что вы не были с ним заодно.
Маслов встал, подошел ко мне и вдруг протянул руку.
— Благодарю вас за искренность.
Я пожал ее.
— И что же теперь? — спросил я, ничего не понимая.
— Теперь не смею задерживать вас более. А я должен заняться неотложными вещами. И даю вам слово, что сделаю все возможное, чтобы вас не беспокоили более по этому неприятному делу. Что же вы, идите!
Я встал и пошел к дверям как в бреду. Только выйдя в коридор, вспомнил, что нужно же было что-то сказать, попрощаться, поблагодарить. Я вернулся.
Маслов снял с себя сюртук и надевал мундир.
— Господи, что еще? — недовольно спросил он.
— Скажите, я могу надеяться, что Степан Иванович…
— Ну же?
— …что он ничего не узнает? — Я кивнул на мои бумаги, что лежали на столе.
Маслов усмехнулся.
— Что ж, если это так важно для вас.
— Благодарю, — сказал я и прикрыл за собой дверь.
У ворот стоял извозчик.
— Садитесь, ваше благородие!
Я залез к нему.
— Что, барин, молчишь? Куда везти-то?
Меня вдруг охватило странное желание искупаться.
— Вези к Волге, — сказал я.
Он плюнул, присвистнул, хлестнул вожжами, и мы не спеша покатили. Помню, как ехали мимо длинного университетского забора, потом перемахнули по мосту через Булак, доехали почти уже до Адмиралтейской.
Вдруг что-то случилось со мной.
— Поворачивай! — крикнул я. — Ну, скорее! Скорее! Мчи на Большую Казанскую!
Извозчик развернул лошадей, и мы помчались обратно в Казань. Хотя он хлестал лошадей, мне все казалось, что мы еле тащимся, и я все время кричал и подгонял его кулаком, поддавая ему то в спину, то в ухо.