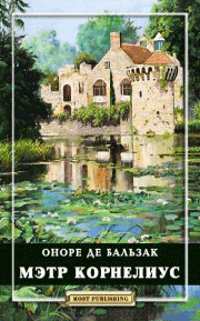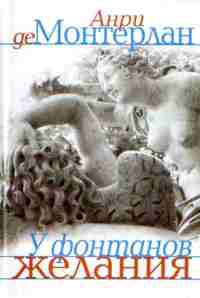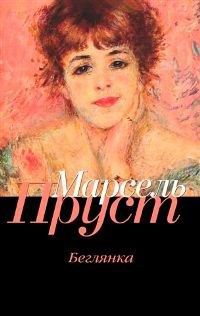Книга Содом и Гоморра - Марсель Пруст
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако мучительное беспокойство лифтера все росло. Раз он не выражал мне своей преданности обычными улыбочками, значит, с ним стряслась беда. Быть может, он получил «отставку». Я дал себе слово, если это действительно произошло, добиться его восстановления, поскольку директор обещал мне исполнять все мои пожелания, касающиеся персонала: «Вы можете требовать чего угодно – я заранее все ректифицирую». Но, выйдя из лифта, я сейчас же сообразил, почему лифтер был так взволнован и так растерян. При Альбертине я, сверх обыкновения, не дал ему сто су. И этот болван, не поняв, что я просто не хочу выставлять напоказ свою щедрость, впал в уныние, вообразив, что все кончено, что я ему больше никогда ничего не дам. Он решил, что я «захудал» (как выразился бы герцог Германтский), но это предположение не вызвало у него ни малейшей жалости ко мне – это было для него страшное разочарование чисто эгоистического характера. Я подумал, что я бывал не так уж безрассуден, как полагала моя мать, когда не мог заставить себя не дать той же огромной, но лихорадочно ожидаемой суммы, какую дал на чай накануне. Но, с другой стороны, значение, какое я до сих пор без малейших сомнений придавал привычно радостному виду лифтера – виду, который я, не колеблясь, принимал за проявление привязанности, показалось мне обессмысленным. Глядя на лифтера, способного от отчаяния броситься с шестого этажа, я задавал себе вопрос: если бы в наших социальных условиях произошел полный переворот, если бы, например, случилась революция, то лифтер, который сейчас так для меня старается, этот же самый лифтер, превратившись в буржуа, не вышвырнул ли бы меня из лифта и не отличаются ли некоторые слои простонародья большим двуличием, нежели свет, где, конечно, за нашей спиной говорится бог знает что, но где никто не стал бы оскорблять нас, если б мы были несчастны?
И все же нельзя сказать, чтобы самым корыстным человеком в бальбекском отеле был лифтер. С точки зрения корыстолюбия персонал делился на две категории: на тех, кто чувствовал разницу между постояльцами и предпочитал благоразумное вознаграждение старого дворянина (даже если он двадцать восемь дней в течение каждого месяца одарял их шишами с маслом) неосмотрительной широте какого-нибудь мота, в которой сказывалось незнание жизни, только при нем именовавшееся добротой. И на тех, для кого родовитость, ум, известность, положение, манеры ровно ничего не значили, – все это для них перевешивала та или иная цифра. Для них существовал только один вид иерархии – деньги, которые есть у человека или, точнее, которые он способен дать. Может быть, даже Эме, считавший, что у него большой жизненный опыт, которым он обязан службе во многих отелях, принадлежал именно к этой категории. Оценивая таким образом людей, он только вкладывал в это социальный смысл и знание того, кто из какой семьи, когда спрашивал, например, о принцессе Люксембургской: «А денег там много?» (пользуясь вопросительной формой для того, чтобы получить сведения, или же для того, чтобы подвергнуть окончательной проверке сведения, полученные прежде чем рекомендовать постояльцу, ехавшему в Париж, повара или посадить только что прибывшего в Бальбек за столик слева, у входа, с видом на море). И все же, не свободный от корыстолюбия, он не стал бы проявлять его с глупейшим отчаянием. Впрочем, может статься, в данном случае все было так обнажено из-за наивности лифтера. Удобство большого отеля, удобство такого дома, каким прежде был дом Рашели, состоит в том, что на доселе бесстрастном лице кого-нибудь из прислуги или продажной женщины вид стофранкового, а тем более – тысячефранкового билета, хотя бы его дали кому-то еще, невольно вызывает улыбку, а за улыбкой следует предложение услуг. Между тем в политике, в отношениях любовника к его любовнице между деньгами и услужливостью существует ряд средостений. Их здесь так много, что даже те, у кого деньги в конце концов вызывают улыбку, часто оказываются не в состоянии проследить за внутренними движениями, которые их удерживают, они считают себя щепетильными, да они и в самом деле таковы. И потом, это освобождает от необходимости прибегать к тактичным фразам, как, например: «Теперь я знаю, что мне остается, завтра меня найдут в морге». Вот почему в обществе людей действительно тактичных найдется мало романистов, поэтов, всех этих возвышенных существ, которые говорят именно то, что не следует говорить.
Как только мы с Альбертиной остались одни и пошли по коридору, она обратилась ко мне с вопросом: «За что вы на меня сердитесь?» Было ли мое жестокое обращение с Альбертиной мучительно для меня самого? Не являлось ли оно всего лишь неосознанной уловкой, не хотел ли я просто напугать мою подружку, не хотел ли я, чтобы она стала вымаливать у меня ответ, что дало бы мне возможность расспросить ее и, быть может, выяснить, какое из двух предположений, давно возникших у меня относительно нее, имеет под собой основание? Так или иначе, я, услышав ее вопрос, вдруг почувствовал, что я счастлив, как бывает счастлив человек, близкий к давно желанной цели. Не отвечая, я довел ее до двери в мой номер. В отворенную дверь хлынул розовый свет, наполнявший комнату и превращавший белую кисею занавесок, задернутых к вечеру, в шелк цвета зари. Я подошел к окну; чайки снова слетели на волны; но только теперь они были розовые. Я обратил на это внимание Альбертины. «Не уклоняйтесь от ответа, – сказала она, – будьте так же откровенны, как я». Я начал лгать. Я объявил, что сначала ей придется выслушать признание – признание в том, что с некоторого времени я испытываю сильное чувство к Андре, и признался я в этом так просто и так искренне, как признаются на сцене, а в жизни если и признаются, то лишь в мнимой любви. Вновь прибегая к той лжи, которой я уже воспользовался ради Жильберты еще до моего первого приезда в Бальбек, но только в ином варианте, я старался придать как можно больше правдоподобия тому, что я не люблю Альбертину, и у меня как будто нечаянно вырвалось, что я чуть было не влюбился в нее, но что с тех пор много воды утекло, что теперь она для меня только близкий друг и что, даже если б я и захотел, я бы уже не мог возбудить в себе к ней более пылкое чувство. Но, так резко подчеркивая свое равнодушие к Альбертине, я – в силу особо го обстоятельства и с определенной целью – достигал лишь того, что становился слышнее и явственнее обозначался двойной ритм, который бьется в любви тех, что слишком неуверены в себе и не могут допустить, чтобы женщина их полюбила и чтобы они по-настоящему полюбили ее. Они достаточно хорошо себя знают и помнят, что, встречаясь с самыми разными женщинами, они питали те же надежды, испытывали те же волнения, придумывали те же романы, произносили те же слова, и на этом основании они полагают также, что их чувства, их поступки не находятся в тесной и неизбежной зависимости от любимой женщины, что они проходят стороной, что они только обрызгивают ее, что они до нее не доходят, как не доходят до скал несущиеся мимо волны, и это ощущение собственного непостоянства еще усиливает их недоверие к женщине, о которой они страстно мечтают, но которая, как им представляется, их не любит. Раз она – всего лишь случайность, возникшая там, где бьют ключом наши желания, то почему же судьба непременно устроит так, что и мы явимся пределом ее мечтаний? Вот почему, хотя мы и ощущаем острую потребность излить ей все эти чувства, столь не похожие на обыкновенные человеческие чувства, которые нам внушают наши близкие, – излить те совершенно особенные чувства, каковы суть чувства любовные, но, после того как мы сделали шаг вперед, признались любимой женщине в нашей сердечной склонности, поверили ей свои надежды, на нас сейчас же нападает страх при мысли, что мы ей неприятны, страх и неловкость, оттого что мы не нашли слов, с которыми можно было бы обратиться только к ней одной, оттого что мы уже ими пользовались и еще будем пользоваться при объяснениях с другими женщинами, оттого что если она не любит нас, то, значит, и не поймет, оттого что, говоря с ней, мы проявили отсутствие вкуса и целомудрия, свойственное педанту, в разговорах с невеждами подбирающему изысканные выражения, которые те не оценят, и вот этот-то самый страх, этот стыд порождают контрритм, отлив и вместе с тем порождают потребность, хотя бы сначала и отступив, поспешив отречься от нежной склонности, в которой мы только что открылись, тотчас же затем перейти в атаку и вновь заслужить уважение, вновь подчинить себе; этот двоякий ритм наблюдается в разные периоды одного и того же романа, наблюдается во все соответствующие периоды таких же романов, наблюдается у всех мужчин, склонных скорее к самоумалению, чем к переоценке своих достоинств. Если же в словах, с которыми я обращался к Альбертине, этот ритм бился чуть-чуть сильнее, то лишь потому, что мне хотелось как можно скорее и с особенной силой заговорить в ритме противоположном, которого потребовала бы моя влюбленность.