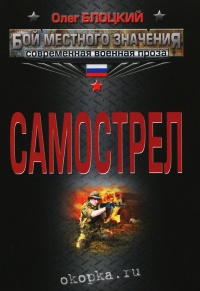Книга Форпост - Григорий Солонец
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В полдень, когда разведчики основательно углубились в «зеленку», нас, как и ожидалось, встретили отнюдь не традиционными хлебом и солью, а градом свинца. Двухэтажный, с толстыми стенами дом, явно не бедняка, ощетинился пулеметно-гранатометным огнем и напоминал неприступную крепость. Все группы, работавшие в кишлаке, спешно прибыли сюда. Но идти на штурм никто не собирался. Это было бы просто глупо. Комбат, как и было предусмотрено в таком случае, вызвал по переносной радиостанции звено штурмовиков. Первый их заход оказался тренировочным: бывший с нами авианаводчик почему-то не сразу смог установить связь с экипажами. Это обстоятельство и оглушительный рев пронесшихся «сушек» над головой заставили нас, засевших в доме напротив, понервничать.
На всякий случай пустили в небо, обозначая себя, несколько сигнальных ракет: кто его знает, что там на уме и перед глазами летчиков, вдруг еще по ошибке своих за «духов» примут. К счастью, связь наладилась, и самолеты отбомбились как раз там, где стоял дом-крепость. Когда пыль и дым развеялись, мы его… не увидели.
Что поделаешь, война, пусть официально и необъявленная, — жестокая штука. И смерть, и разрушения на ней, увы, обычное явление.
«Зачистка», продолжавшаяся два дня, дала свой результат. И хотя Кадыр, как хитрый лис, опять ускользнул по сложной системе кяризов (подземные колодцы, соединенные между собой ходами сообщения. — Авт.), его отряд и базы разведчики пощипали основательно. Наверное, больше месяца с местной «зеленки» не раздавалось ни одного выстрела. Непривычно тихо было и на участке дороги от Баграма до самого Джабаль-Уссараджа. Но потом, видимо, получив из соседнего Панджшера подкрепление, «духи» вновь напомнили о себе. В штабе дивизии все чаще стали поговаривать о необходимости проведения новой «зачистки» зеленой зоны…
«Ты слышишь, птицы как кричат?
Они кричат о нашей встрече,
А ты платок накинь на плечи
И выходи меня встречать.
И снова будет ясным утро,
И будут травы воду пить,
И будешь ты светло и мудро
О нашей встрече говорить».
Это рукописное стихотворение, уже и не помню откуда-то переписанное или свое, я недавно нашел в старом книжном шкафу. 20 лет оно пролежало в стопке вместе с афганскими письмами, бережно сохраненными женой: насчитал их 203. Некоторые перечитал и словно вернулся в молодость, в которой легко уживались наивность, романтика, энергия поступков и порыв чувств.
Письма эти, откровенно-исповедальные, с обратным адресом полевая почта 51 854-Р, как увольнительная для души, невольно огрубевшей за месяцы войны. Когда глаза видели — и не однажды! — смерть, когда руки привыкли к вороненой стали автомата как к ложке, когда, что называется, кожей научился чувствовать опасность, тогда с естественной усталостью приходит потребность в душевном разговоре с другом, письме домой. И бумаге стройными рядами передаются мысли, впечатления и чувства о пережитом. Но внутренний цензор заботливо фильтрует поток твоего сознания в зависимости от адресата. Другу-однокласснику и даже брату можно сообщить о том, о чем ни за что не напишешь маме или жене: например, о подорвавшейся на коварной мине боевой машине пехоты, после чего навеки безногим инвалидом стал 20-летний парнишка, механик-водитель. Или о командирской беспечности и разгильдяйстве, приведших к нелепой трагедии… Маме, у которой больное сердце, незачем знать, что «черные тюльпаны» отнюдь не цветы, а «двухсотые» и «трехсотые» — это не радиопозывные. Жене в Минск, а потом в город Лубны, на Полтавщину, с удовольствием писал о дачном участке, разбитом за типографией и уже в марте радовавшем так нужными витаминами: зеленым луком, чесноком, укропом, редиской; об урожае винограда, из которого получалось вкусное молодое вино; о прижившихся с легкой редакторской руки ивах; о кинопремьерах и концертах в ГДО; наконец, о погоде — почти курортной, хотя на самом деле уже с апреля по октябрь очень жаркой… Об инфекционных болезнях, косивших нашего брата, разумеется, в письмах только вскользь: к чему домашних волновать?
Новая корректор-машинистка редакции татарка Люда Хисматуллина маме в Челябинскую область писала… из Венгрии, хотя находилась в Афганистане. Это была святая ложь, и не одна Люда прибегала к ней. Откровенно говоря, и я не сразу признался маме, что служу уже далеко от прекрасного Минска.
К середине 1980-х почтово-фельдъегерская связь работала более-менее надежно. Посылки, разумеется, личному составу 40-й армии из Союза не доставлялись, только письма и небольшие бандероли. Но и их порой приходилось ждать полторы-две недели, а то и больше. А виной тому была нелетная погода, обычно выпадавшая на осенне-зимний период. Самолета-почтовика всегда ждали как желанного гостя, с надеждой поглядывая на небо. И его внезапное появление одновременно поднимало настроение и боевой дух тысячам людей: какому замполиту такое под силу? Однажды необычный подарок от жены в виде сразу шести писем привез этот воздушный почтальон и мне. Когда выпадала возможность, старались дать весточку домой с нарочным — со знакомым офицером, отправлившимся в отпуск или в командировку в Союз: так было быстрее и надежнее. Однажды «духи» подбили почтовый самолет, особой ценности для них не представлявший. Пилоты, по моим сведениям, сумели спастись, а вот мешки с так и не дошедшими до адресата письмами сгорели в огне. На войне как на войне: такое случалось, причем намного чаще и в Великую Отечественную. Те бумажные фронтовые треугольники, в одном из которых пришла и страшная повестка о без вести пропавшем осенью 1941 года моем деде, навсегда вошли в историю.
Боезапасом в конвертах назвал знакомый замполит роты письма с Родины. И на примере своих солдат доказал правомерность такого сравнения. Дескать, идя в горы, вместе с оружием, патронами, сухим пайком они берут и полученные накануне почтовые весточки от мам, невест, друзей. С ними они чувствовали себя увереннее в бою. Эти письма, как ангелы-хранители, как духовный талисман, прибавляли сил и оберегали в минуту опасности…
Он каждое утро, в любую погоду, как на работу приходил к конечной станции метро, устраивался поудобнее в своем закутке на складном стульчике и просил милостыню у вечно спешащих куда-то людей. Этот невысокий худощавый мужчина лет сорока пяти в серой поношенной ветровке, вылинявших джинсах и темных очках настолько примелькался здесь, что с ним, как со своим, здоровались работники станции, а дежурный милиционер, не разрешавший бабкам приторговывать всякой мелочью, великодушно не замечал нищего, собирающего дань. Впрочем, в положенную на бетонный пол панаму прохожие нечасто бросали даже мелочь. И лишь когда он брат в руки скрипку и выводил жалостливую мелодию, некоторые прохожие замедляли шаг, а то и вовсе останавливались на несколько секунд, чтобы послушать почти совсем слепого музыканта, а затем и отблагодарить его. Однажды и я, очарованный этой дивной музыкой, усиленной акустикой подземного перехода, остановился на минутку. И ничуть не пожалел об этом.
Как он виртуозно, необычно играл! Скрипка, словно живое существо, плакала, с помощью звуков тонко донося до слуха посторонних людей невысказанную печаль и боль своего хозяина, полностью подчиняясь его воле. Какая-то солидная дама, видимо, знавшая толк в музыке, не удержавшись, восторженно воскликнула: «Господи, да ему в консерватории выступать нужно!»