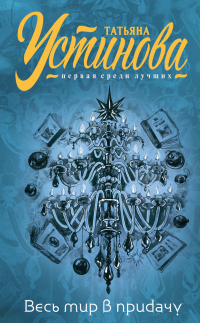Книга Король без завтрашнего дня - Кристоф Доннер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После суточного дежурства надзиратели выходили из Тампля героями. Вокруг них тут же собиралась толпа, жаждущая узнать все подробности жалкой жизни Капета. О ней сочинялись анекдоты, становившиеся все более нелепыми и искаженными по мере пересказа. По Европе распространялись легенды, заключение королевской семьи постоянно будоражило умы. Оно словно было фирменным знаком, точнее, позорным клеймом Франции. Историкам вряд ли удастся измерить ту степень отвращения, которую многие европейцы и сейчас испытывают к французам.
В четыре часа пополудни королевская семья поднималась в башню, где Клери сервировал обед. Дофин читал наизусть басню Лафонтена. В свои семь с половиной лет он читал Вергилия на латыни, краснел над дерзостями Монтескье, но Лафонтен оставался его любимым автором. Мальчик размышлял, путешествовал и взрослел с каждой новой басней. Не сочинял ли великий моралист свои истории именно для него, а через него надеялся передать всем будущим дофинам Франции?
Рассказывают, что однажды за обедом, увидев на тарелке бриошь, дофин впился в нее глазами и воскликнул:
— Мама, какая замечательная бриошь! Я знаю, в какой шкафчик ее надо положить на сохранение! Булочка будет там в полной безопасности — уверяю вас, никто не сможет ее оттуда взять!
Все начали оглядываться в поисках шкафчика, но его не было. Незадолго до того Ролан, министр внутренних дел, обнаружил в Тюильри пресловутый «железный шкаф», наполненный секретными документами, явившимися неоспоримым доказательством измены короля. Услышав, что ребенок говорит о каком-то «шкафчике», гвардейцы насторожились, уже предвкушая новый обыск.
— Сын мой, — Людовик XVI развел руки, — я не вижу шкафчика, о котором вы говорите.
Нормандец сказал, указывая на свой рот:
— Вот дверца.
Все рассмеялись, и ребенок нравоучительно произнес:
— «Мы слушаемся лишь своих предчувствий, не веря в зло, покуда не придет».
Каким превосходным монархом он мог бы стать! Верится, что из него получился бы правитель хитроумный и могущественный, способный объединить и господ и слуг, сделав их своими подданными.
Эбер, как помощник прокурора, один раз в неделю бывал с инспекцией в Тампле. Предполагалось, что он осматривает строящиеся укрепления и проверяет их надежность. Каждый раз он составлял отчет, который муниципальные гвардейцы, согласно своим обязанностям, передавали в бюро Генерального совета Коммуны.
Понемногу его начало раздражать то, что к ребенку Капета все окружающие относились с явной симпатией. Он подумал о Франсуазе, которая была на седьмом месяце беременности. Каким будет место его ребенка в жизни, что будет значить его титул гражданина, о каком равенстве его с ребенком короля может идти речь, если последний продолжает вызывать едва ли не преклонение? Отцовское чувство, переполнявшее сердце Эбера, еще сильнее подхлестывало его нетерпеливое желание избавиться от всех пережитков монархии: он поклялся, что его ребенок родится в стране без короля и станет представителем очищенной нации. Так чего еще ждать, для того чтобы осудить Людовика XVI?
«Есть в Конвенте горстка засранцев, которые хотят, чтоб мы пятились как раки, хотят помешать нам свершить правосудие над гнусным боровом из Тампля!» — снова негодует папаша Дюшен.
Помнят ли еще о войне? Заботит ли кого-нибудь участь солдат Свободы, каждый день гибнущих на фронте?
Папаша Дюшен радуется взятию Монса и Турне, он доволен тем, что скоро увидит возвращение наших бравых санкюлотов, увенчанных лаврами, — но будет еще больше рад, если «истребят, наконец, всех господ, какие еще остались в стране». Он обнаружил «свору аристократов, которые хотят посадить на трон мелкого ублюдка, этого бывшего дофина, тряпичную куклу в руках мамаши, которая не знала его отца!»
Папаша Дюшен переодевается медиком, чтобы пощупать пульс австриячки. Его диагноз гласит, что никто в этой семейке по-настоящему не болен: «все они — проклятые притворщики!»
В другой раз он переодевается графиней Полиньяк, и королева бросается ему на шею. Думая, что снова обрела свою «милашку», она осыпает его «гнусными поцелуями», и он уверяет, что «чуть не выблевал ей в физиономию все красное вино, какое залил себе в глотку в этот день». Он передает и очередное свидетельство гнусности королевы — фразу «Да когда ж они все сдохнут, проклятые якобинцы?»
11 декабря 1792 года в Париже поднялся великий переполох. Во всех кварталах били общий сбор и объявляли последнюю новость: за королем явился отряд всадников, чтобы отвезти его в Конвент и предать суду.
Людовик XVI хотел увидеть сына и попрощаться с семьей перед отъездом, но ему в этом отказали. Тогда он молча сел в карету и за всю дорогу не произнес больше ни слова.
В Конвенте, в присутствии депутатов и допущенных на процесс наблюдателей, королю пришлось отвечать на обвинения в предательстве и коррупции. Он почти не защищался, потому что все было очевидно: он и в самом деле платил газетам, чтобы извратить общественное мнение; он, в определенном смысле, и правда действовал в пользу иностранных армий; он привел страну к разрухе. И, прежде всего, он действительно пытался бежать. Груда доказательств все росла, и напрасно Людовик XVI пытался их отрицать или представлять факты в ином свете — никого это не убеждало. А впрочем, у него и не было такой цели: он знал, что уже приговорен, ему лишь хотелось как можно быстрее со всем этим покончить, даже если инстинкт самосохранения порой брал верх, — и тогда он заявлял о своей невиновности и требовал амнистии, право на которую давала ему Конституция. Обвинители отвергали эти доводы, пожимая плечами. Ни одно из прав человека не распространялось на бывшего монарха.
«Какого черта столько церемоний, чтобы отправить на гильотину самого гнусного из всех негодяев?»
Папаша Дюшен был убежден, что и одного дня хватило бы, чтобы допросить обвиняемого, устроить ему очные ставки со свидетелями и отправить на казнь. Но, к его величайшей досаде, процесс продолжался шесть недель. «Черт подери, да неужто так трудно отрубить голову этому рогоносцу?»
На Рождество, испытывая отчаяние из-за того, что ему не дают увидеться с детьми, Людовик XVI пишет завещание: «Я рекомендую моему сыну, если когда-нибудь ему выпадет несчастье сделаться королем, забыть всю горечь и ненависть».
Несчастье сделаться королем…
На следующее утро Людовика XVI снова повезли в Конвент на очередное судебное заседание. По пути у него завязался разговор с сопровождавшими его Шометтом и Куломбо о литературе и достоинствах Тацита и Тита Ливия в сравнении, в то время как толпа снаружи бушевала: «Смерть королю! Да здравствует Республика!»
Людовик XVI в последний раз хотел предстать перед публикой мудрым правителем, но вместо этого выглядел фанатичным мучеником, чье лицо выражало запредельное спокойствие. Он словно был уже не от мира сего, и смерть его не ужасала.