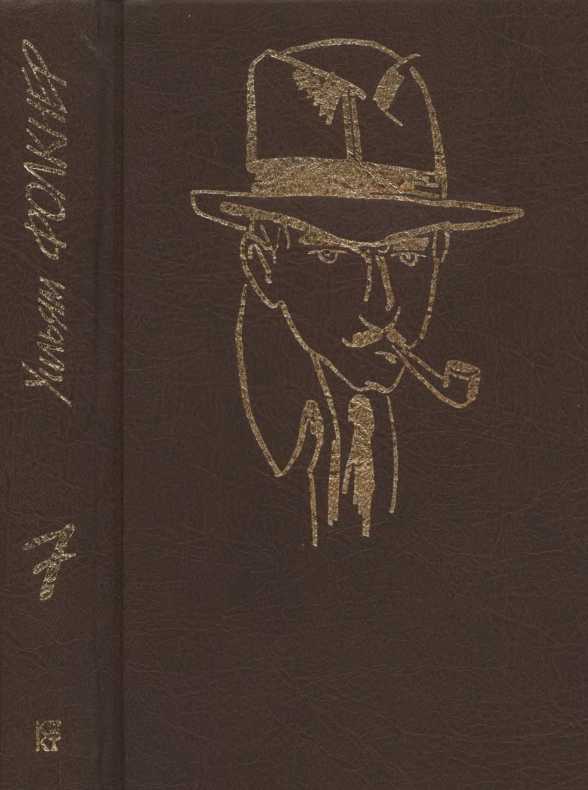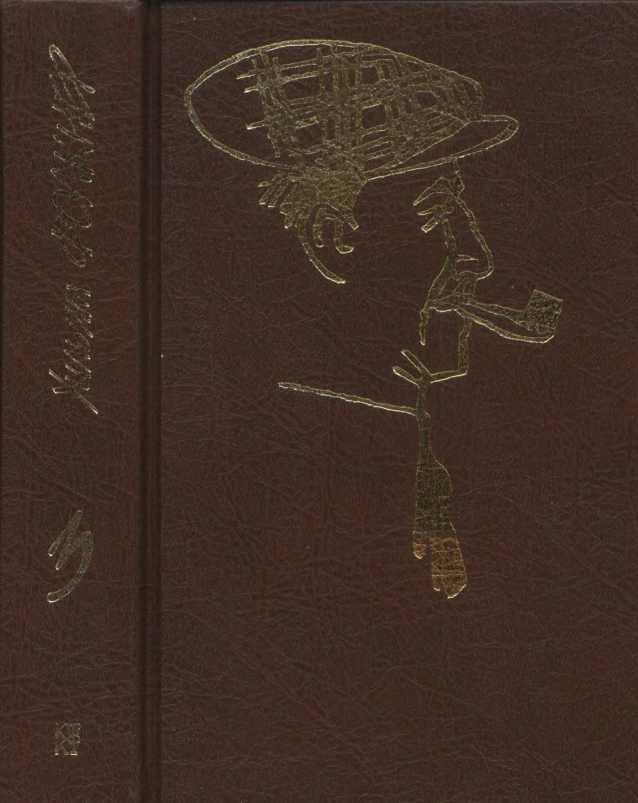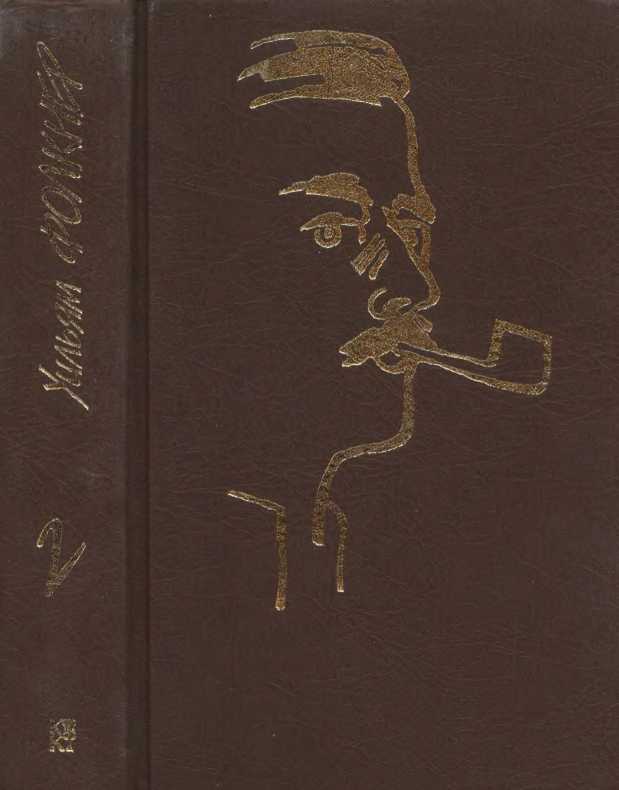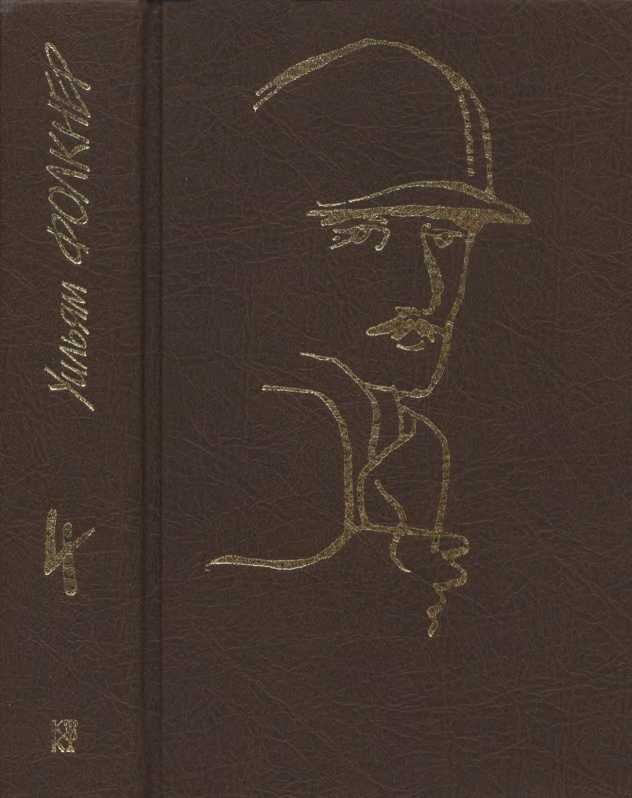Книга Собрание сочинений в 9 тт. Том 6 - Уильям Фолкнер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
и Маккаслин:
— Из сынов Хама[25]. Ты ведь ссылаешься на Книгу, а там сказано: сыны Хама.
и он:
— В Книге есть то, что сказано Им, и то, что Ему приписали. И знаю, ты возразишь, что если правда для меня одно, а для тебя другое, то как же выбрать нам, что есть истина? А выбирать не нужно. Сердце само знает правду. Книгу Он предназначил для чтения не избирающим и выбирающим умом, а для чтения сердцем; не для мудрецов земных, ибо не нуждаются они, возможно, в ней или уж и не осталось у мудрецов сердца, но для приниженных и обреченных сынов земли, кто читает лишь сердцем, кому больше нечем читать. Ибо люди, по назначенью Его записывавшие Книгу, писали о правде, а правда есть лишь одна и охватывает она все, относящееся к сердцу.
и Маккаслин:
— Выходит, те, кому назначил Он записывать Книгу, порою лгали.
и он:
— Да. Потому что они были люди, человеки. Они пытались из сложносплетенности сердечных побуждений извлечь и записать правду сердца для всех сложносплетенных и мятущихся сердец, что будут биться после них. То, что пытались они сказать, что Он побуждал их сказать, было чересчур просто. Люди, для кого записывали они слова Его, не смогли бы им поверить. И приходилось перелагать на повседневный язык, знакомый и понятный людям — не только слушателям, но и самим проповедовавшим; и если даже те, кто был столь близок к Нему, что Он избрал их из всех, имеющих дыхание и речь, для записи и передачи Его слов, могли постегать правду лишь через сложносплетенность страстей, вожделенья, ненависти, страха, правящую сердцем, то какое же расстояние до правды надо преодолеть тем, кто внимает правде только из вторых и третьих уст?
и Маккаслин:
— Я мог бы ответить, что не знаю, коль скоро спорен текст, которым ты подкрепляешь себя и опровергаешь меня. Но не скажу так, поскольку ты ответил себе сам: никакого расстоянья вовсе нет, если, как сказал ты, сердце знает правду — непогрешимое, неошибающееся сердце. И возможно, ты прав, ибо хотя ты сказал, что отстоишь от старого Карозерса на три поколения, но трех не было. Даже и полных двух не было. Были дядя Бак и дядя Бадди. И они были не первыми и не единственными. За два неполных поколения, а то и за неполное одно нашлась тысяча других Баков и Бадди в этой стране, которую, как утверждаешь ты, Бог создал, а сам человек обрек проклятью и заразил гнилью. Я уж не говорю о 1865 годе.
и он:
— Да. Были не одни лишь отец с дядей. — Сказал, даже не бросив взгляда на полку с конторскими книгами (как не бросил взгляда и Маккаслин). Незачем было. Казалось и так ему, что блекнущую череду тех счетных книг с кожаными переплетами в трещинах и шрамах снимают книга за книгой и раскрывают на столе тут или, пожалуй, на легендарном Судебном Столе или на Алтаре, пред Самим даже Престолом для последнего прочтения и рассмотрения и освеженья в памяти Всеведущего, чтоб затем уж пожелтелые листы, блеклые бурые строки, запечатлевшие неправедность и хотя малое, но исправленье, искупленье кривды и вины, навек вернулись, померкая, в безымянный общий изначальный прах
на пожелтелых листах блеклые чернильные каракули сперва рукой деда, а затем отца и дяди — двух братьев, неженатых и к пятидесяти, и в шестьдесят, и на седьмом десятке; один брат-близнец вел плантацию, ведал землей, другой домохозяйничал и стряпал и продолжал тем заниматься даже после братниной женитьбы и рожденья мальчика
два брата — похоронив отца своего, Карозерса, они тут же из размашисто задуманного здания площадью со скотный двор, так даже и не конченного Карозерсом, перешли в бревенчатый однокомнатный домик, сами его поставили и прибавляли потом к нему комнаты, уже живя в нем, рабам же, когда строили, не давая до малой тесинки коснуться — разве только бревна сруба, которых не поднять вдвоем, кладя на место с их помощью, — а рабов всех поселили в том большом здании, где часть окон была еще забита обрезками досок или затянута шкурами медведей и оленей поверх пустых рам; и на закате каждого дня брат, ведавший плантацией, делал неграм смотр, как старшина делает вечернюю поверку роте, и загонял их, мужчин, женщин и детей, не принимая возражений, протестов и просьб, в мертворожденное здание-громадину, так и оставшееся в полузачаточном виде, как если бы даже старого Карозерса остановило, устрашило непомерностью замаха собственное тщеславие; загонял их туда, совершив в уме подсчет и перекличку, и самодельным гвоздем длиной со свежевальный нож, висящим у притолоки на коротком ремешке оленьей кожи, запирал, приколачивал на ночь переднюю дверь здания, в котором не хватало половины окон, а задняя дверь и вовсе не была навешена — так что вскоре сложилась в округе и лет пятьдесят бытовала (уже и на памяти подросшего мальчика) народная словно бы сказка про то, как ночи напролет бродят крадучись по местности рабы Маккаслина, избегая залитых луной дорог и белых патрулей — ходят в гости на другие плантации, — и про молчаливое джентльменское соглашение двух белых с двумя дюжинами черных о том, что, пересчитав их на закате и вогнав в дверь домодельный гвоздь, ни сам тот белый, ни брат его не отправятся тут же кругом дома поглядеть, что творится у задней двери, а в свою очередь все черные окажутся за дверью передней, когда на рассвете гвоздь выдернут
близнецы, неразличимые даже и в почерке, если не иметь перед собою образцы их письма для сличенья; даже когда строки их чередовались на одном листе (а это бывало нередко — как если бы, отрешась давно от устного общения, они пользовались этими каждодневно прибавляемыми записями для обсужденья неизбежных дел, связанных с осуществлением идеи, которая, обрыскав в 30-х и 40-х годах того века дичь и глушь Северного Миссисипи, нашла и обуяла именно их двоих), то казалось, что писал их один и тот же нормальнейший десятилетний мальчуган, и даже написанье слов было детское, да только не улучшалось оно с годами, по мере того как один за другим рабы, унаследованные и купленные Карозерсом