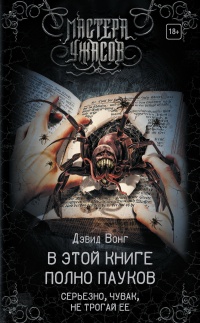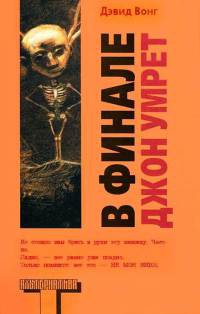Книга Мельмот - Сара Перри
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Мельмат, – сказал он, слыша в собственном голосе и страх, и влечение к ней. Кто еще у него оставался, кроме нее – той, кто знает, что он совершил? Кто еще мог бы остаться с ним, кроме нее – той, чья жизнь была вечным наказанием? – Мельмат, я знаю тебя, а ты знаешь меня.
Она погладила мешок, лежавший рядом на песке, и запела, и ее мягкий голос поверг Безымянного в ужас и трепет.
– И что же ты знаешь обо мне? – спросила она.
– Знаю, что ты проклята, как проклят я сам.
– Это правда, я проклята. – Тени, бегущие по ее лицу, на время застыли, и Безымянный ясно увидел, как выступают скулы на ее исхудавшем лице и как горят прежним огнем дымчатые глаза. – Что еще ты знаешь обо мне?
– В детстве мне рассказывали, что ты скитаешься по земле и наблюдаешь за самыми низкими и подлыми проявлениями людской натуры, что ты приходишь туда, где совершаются самые отвратительные из грехов, что ты – свидетельница. Мне говорили, что ты являешься к тем, кто погрузился в абсолютное отчаяние, протягиваешь им руку и предлагаешь свою дружбу, потому что твое одиночество невыносимо.
– Это правда. Я одинока.
– Тогда возьми меня с собой! – воскликнул Безымянный. – Что мне теперь остается? Мой брат и единственный друг мертв, повиниться перед отцом я не могу, я стал причиной стольких страданий, что это зрелище будет стоять у меня перед глазами до конца моих дней!
– Так ты станешь моим спутником? – спросила женщина, вставая. У нее за спиной над горизонтом поднималось солнце. Черный шелк одежд взлетал и опадал, как будто она стояла в прозрачной воде.
– Возьми меня с собой! Если мы с тобой оба прокляты, почему бы нам не влачить свое проклятие вместе? Как я могу вернуться к прежней жизни, если это была жизнь дьявола? Я недостоин своего дома, своей земли, своей семьи, своего имени!
– Имени! – Женщина вдруг развеселилась. Никогда ему не доводилось слышать ничего страшнее этого тихого смеха, который разносился над усыпанным мешками берегом. – Имени, значит? Назови мне свое имя.
Безымянный открыл рот, но язык ему не повиновался. Он лежал во рту, неподатливый, как кусок жесткого мяса.
– Назови мне свое имя! – потребовала она, и Безымянный вдруг осознал, что забыл его, что у него нет больше имени, как нет больше брата.
Женщина снова засмеялась, и ее рука нырнула в складки платья. В следующее мгновение Безымянный увидел, что ее пальцы сжимают письмо. Оно не походило на те бумаги, которые ежечасно – по крайней мере, так ему казалось в угаре рабочей недели – проходили через его руки; это был крошечный белый квадратик, и написанное на нем синими чернилами имя адресата давно размыло водой.
– У меня есть кое-что для тебя, – сказала женщина и протянула ему письмо. Она смотрела на него, улыбаясь, и глаза ее вспыхнули прежним голубым светом. Безымянный взял сложенный в несколько раз листок. Блеклое утро уже наступило, и его унылого света было достаточно, чтобы прочесть письмо.
Дочитав до конца, он пронзительно закричал – это был бессловесный, бессмысленный, безнадежный вопль – и упал ничком на песок. Женщина, по-прежнему улыбаясь, вытянула босую ступню и несколько раз легонько пнула его. Волны накатывали на берег. Глаза лежавшей в мокром мешке девочки смотрели на солнце. Безымянный слепо шарил рукой по песку, ища Мельмот, ища пощады, – но ничего не находил. Так прошел час. Когда он поднял голову, на берегу никого не было.
На этом дневник Анны Марни заканчивается.
Примечания издателя
I. В 1940 году Марни официально зачислили в Совещательный комитет военных художников при Министерстве информации Великобритании. Ей принадлежат более трехсот набросков углем, часть из которых хранится в коллекции Имперского военного музея. Они выполнены в импрессионистическом стиле, в углу каждой работы – фигура в черном: так художница изобразила саму себя в образе свидетельницы. Она умерла в Каире в 1974 году после непродолжительной болезни.
II. Дневники Марни остаются загадкой для историков. Стилистическая разница между первыми записями и «Свидетельством» и то, как внезапно обрывается дневник, говорят о том, что Марни могла страдать от психического заболевания с диссоциативными симптомами. Другие исследователи предполагают, что дневник представляет собой просто художественное сочинение, не обладающее исторической ценностью.
III. Поскольку большое количество официальной документации, касающейся приказов о депортации и формировании специальных вооруженных отрядов в период 1914–1918 годов, было уничтожено, нет никакой возможности идентифицировать прототипы Безымянного или Хассана. Тем не менее несколько важных деталей представляют интерес для историков. Переписка 1915 года между служащим американского консульства в Трабзоне и Государственным секретарем США подтверждает факт жестокого обращения с армянскими детьми на этой территории в исследуемый период, равно как и личное свидетельство турецкого лейтенанта, попавшее к британскому военному правительству в 1916 году. В деталях отчета Красного Креста о состоянии турецких военнопленных, которых содержали в британских лагерях в Египте, можно найти разительное сходство с тем, что описывает в своем дневнике Марни. В настоящее время эти документы оцифрованы и доступны онлайн, однако у англичанки, жившей в Каире в 1931 году, не было возможности с ними ознакомиться. Кроме того, между записью в дневнике и этими свидетельствами есть значительные несоответствия – например, в Сумельском монастыре близ Трабзона нет колокольни.
IV. Возможно, самое поразительное в дневнике Марни – это найденное между страницами письмо, которое приводится ниже:
Трабзон
1889 г.
Брат мой, целую твои руки. Больше я тебя не увижу. Наши документы готовы, и назавтра мы уезжаем. В Константинополе мы будем жить под флагом со звездой и полумесяцем вместо креста; из презренных армян мы превратимся в славных турок. Ты решишь, что я глуп. Ты говоришь, что резня, которую мы видели собственными глазами, осталась в прошлом и не грозит нам в будущем. Но я теперь знаю, что вернее полагаться на опыт, чем жить надеждами, и по ночам мне все еще слышится барабанный бой.
И все же я надеюсь, брат, и это придает мне сил, – надеюсь на то, что страдания нашего народа не остаются незамеченными и что грядущие поколения будут помнить мое имя, имя моей жены и моих детей, когда наши кости обратятся в прах.
Итак, я, Грант Хачикян, отныне беру себе имя Алтан Шакир и добровольно отказываюсь от своего имени, дома и веры, от обычаев и наследия своих предков, чтобы сохранить жизнь своей жене Забель Хачикян, отныне Айсель Шакир, сыну Эммануэлю Хачикяну, отныне Хассану Шакиру, и еще не рожденному безымянному ребенку.
Прости меня и вспоминай обо мне пред очами Господа.
А теперь взгляните, если можете, на Хелен Франклин. Сейчас утро. Она свернулась калачиком на постели лицом к стене. За несколько дней, прошедших с того вечера, когда Русалка пела арию крашеной луне, Хелен похудела, и под ночной рубашкой, как ребра трилобита, отчетливо обрисовываются позвонки. Мороз усилился. Она дрожит. Альбина Горакова незримо присутствует в квартире: она в пауках, лениво ползающих по засушенным цветам, в пыльных салфеточках, в расставленных на каминной полке уродливых бесполезных вещицах, в запахе затхлого ладана и испорченной еды. По ночам Хелен слышит ее медленные шаркающие шаги и просыпается в полной уверенности, что сейчас старуха возникнет в дверях, – но в коридоре, как рухнувший на пол пьяница, валяются только опрокинутые ходунки. Даже вспоминая о том, как она видела Альбину в последний раз, – пражские театралы с отвращением подбирали полы дорогой одежды, когда ее, облаченную в свадебный наряд, с запрокинутой к потолку головой, несли в паланкине, словно герцогиню, – Хелен не в силах избавиться от ощущения, что квартирная хозяйка в любой момент появится на пороге с тарелкой в руках. Мобильный лежит на полу возле кровати. Иногда экран загорается, раздается трель звонка, но Хелен не берет трубку, и мелодия обрывается.