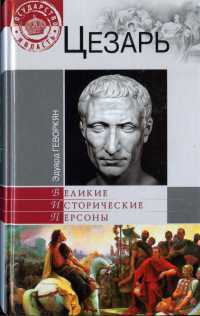Книга Михаил Анчаров. Писатель, бард, художник, драматург - Виктор Юровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«— Врубелем увлекся?.. Зря… — сказал профессор. — Он многим головы заморочил.
И я вспомнил, где я видел нечто подобное. Только в двух работах Врубеля. Потом я нашел еще и третью, “Тамара на смертном одре” — черная акварель прекрасного лица с закрытыми глазами и “Всадник” — неистовый конь и пригнувшийся к гриве человек, тоже черная акварель. Потом, несколько лет спустя, я увидел, что лицо “Сидящего демона” написано так же. Остальное тело было написано обычно. Нужный цвет на нужном месте. По анатомии. Хотя какая у демонов анатомия — сравнивать не с кем. Но это потом, когда “Сидящего демона” наконец впервые после войны выставили в Третьяковской галерее, чтобы мы все видели. А тогда, когда я открыл эти “переломы”, эту картину почему-то не показывали. Однажды он велел своим ученикам сделать по репродукции “Джоконды” рисунок ее рук. Скопировать в рисунке фрагмент картины. Это было необычное задание. Но старик знал, что делал. Ни у кого не получилось. Грубятина или жалобная растушевка. Тогда я одной его ученице рассказал про “переломы”, показал их на натуре и спросил: видишь? Она сказала: “Вижу…” — и засмеялась. Я сказал: “А если попробовать?” — “А ты пробовал так копировать?” — “Никогда…”
Она попробовала. Вечером она позвонила мне по телефону. Она плакала и твердила: понимаешь, получается… понимаешь».
Потом Анчаров находил следы своих «линий» и «переломов» у ЭльГреко и Веласкеса, у Рембрандта и даже у Леонардо да Винчи.
Несмотря на все его споры с преподавателями, поначалу репутацию в институте Анчаров завоевал отличную. В 1950 году студенту II курса Анчарову Михаилу Леонидовичу выдали такую характеристику:
«Студент АНЧАРОВ проявил большие способности в области живописи и рисунка и имеет хорошую успеваемость. Особо следует отметить отличные результаты летней практики, выполненная тов. Анчаровым жанровая композиция в настоящее время экспонируется в Академии художеств СССР. Как коммунист тов. Анчаров принимает большое участие в жизни института».
Изобретательство и наука
Анчаров потом много раз обращался к своему представлению, что творчество и вдохновение являются универсальным механизмом создания нового в любой области человеческой деятельности, — это можно найти в каждом его прозаическом произведении. В конце концов эта идея вышла из рамок анчаровского творчества, стала общепринятой, и ее, наверное, можно причислить к главным и бесспорным положительным итогам эпохи. Идея стирала различия между научным и художественным видением мира, которое тогда еще вызывало беспредметные и бессодержательные споры о том, «кто лучше: поэт или ученый» (к дискуссии «о физиках и лириках» начала шестидесятых мы еще вернемся).
Осознав важность этой мысли, Анчаров решает попробовать, как это выглядит на практике — применение методов творчества к смежным областям, — и ему показалось, что получается. В «Самшитовом лесе» он напишет про себя в то время:
«И надо было ждать, когда идеи признают производительной силой, а ждать Сапожников не мог, его бы разорвало, и была такая полоса и такая жажда придумывать, что он каждый день высказывал идеи, которые потом назовут “пароход на подводных крыльях, конвертолет и видеозапись”. И до сих пор еще в журналах “Техника — молодежи” и “Наука и жизнь” появляются давние, отгоревшие сапожниковские новинки, но уже и многие люди умерли, которым Сапожников мог показать журнал и сказать: “А помните?”…»
Очень характерная для Анчарова небрежность: «конвертолетов» не существует, есть «конвертопланы». Ну и как тут серьезно относиться к такому вот изобретателю, который даже терминологию толком выучить не может?
Пытаясь применить свой творческий метод к малознакомым областям, Анчаров заблуждался в одном. Он изучал живопись до войны и после нее, и самостоятельно, и под руководством Яковлева, и в институте, каким бы кривым обучение в нем ни было, оно давало главное, что обязано давать любое обучение: погруженность в питательную среду, откуда и рождается новое. Не из идей, не из принципов и знания механизма открытий, а из питательного бульона, пересыщенного раствора, в котором и происходит кристаллизация нового. Если вы перечитаете «Самшитовый лес» или «Записки странствующего энтузиаста», то увидите, что в предыдущей фразе намеренно употреблена лексика, характерная для Анчарова, потому что так виднее, из-за чего ему удалось кое-что сделать в живописи, еще больше — в песнях или в прозе, но так и не удалось реализовать эту «жажду придумывать» в отношении науки и изобретательства. Хотя ему и очень хотелось убедительно показать на практике, как именно истинно творческий человек «может быть кем угодно, даже кинооператором» (цитата из «Теории невероятности»), но Анчаров совершенно упускает из виду, что для возникновения внутренней «питательной среды» в любой области нужно учиться не меньше, чем он это делал в отношении живописи.
Тем не менее его попытки проникнуть в чуждые ему области заслуживают не осмеяния, а внимания и тщательного разбора — почему, вы увидите. Здесь мы, как уже много раз делали, нарушим хронологические рамки повествования, потому что большая часть идей пришла к Анчарову именно в рассматриваемый период, но затем он излагал и продвигал их на протяжении всей жизни.
Анчаров всю жизнь избегал навязывать свои взгляды и как-то их специально рекламировать. Эта позиция выражена в «Самшитовом лесе» в образе изобретателя Сапожникова, который был полон идей, но никому не пытался их «продать» и даже не стремился застолбить за собой авторство, только ходил и предлагал «в пространство». Хотя ему многие объясняли, что такое отношение автоматически переводит его изобретения и идеи в разряд несерьезных: «У Сапожникова было много идей, но он их не скрывал, потому никто его и слушать не хотел. Серьезными идеями не бросаются, их приберегают для себя, а несерьезные — кому они нужны». В «Теории невероятности» Анчаров бросит фразу, которая многое объясняет в его отношении к этой стороне жизни: «Счастье — это когда можно выдумывать и бросать идеи пачками и не заботиться о том, что они не осуществятся». Анчаров вместе со своими персонажами полагал, что общество должно само дозреть, причем не просто до идей — до самого способа их производства, отказаться от всего лишнего и наносного, что всегда сопровождает процесс внедрения любой идеи в практику.
Это полностью утопическое представление немало повредило и самому Анчарову. Хотя его повести и романы обычно оканчивались на оптимистической ноте: общество прозревало, амбициозные оппоненты переходили на сторону ранее гонимого, изобретения волшебным образом признавались — но в жизни, увы, этого не происходило и в обозримом будущем вряд ли произойдет. История знает (или забыла) огромное количество прозорливых изобретателей, которые или действительно были не ко времени, или просто не сумели пробиться.
Известно ли читателю, например, о том, что телевидение изобретали, наверное, с десяток раз в разных странах, начиная со второй половины XIX века? И лишь только одному Владимиру Зворыкину на рубеже 1930-х удалось пробиться в толерантной ко всем новшествам Америке. Бесполезно говорить о не готовой технической базе, не созревших социальных условиях и т. п. — есть много изобретений, для которых в момент появления еще «не созрели условия», но потом они были подхвачены (жидкокристаллические дисплеи, литиевые аккумуляторы, солнечные батареи, микросхемы и т. п.). Здесь же подхвачено было именно изобретение Зворыкина, который, разумеется, тоже «стоял на плечах гигантов» — а именно российского профессора Бориса Львовича Розинга, построившего прототип телевизионной системы еще в 1912 году, учеником которого и был юный Зворыкин. Конечно, Зворыкин полностью переработал идеи Розинга, и его изобретение вполне самостоятельное. Но ему бы нипочем не войти в историю, если бы в него не поверил богатый предприниматель Давид Сарнов (кстати, тоже российского происхождения). А до этого Владимир Козьмич лет десять пытался внедрить это изобретение в разных фирмах, но везде получал отказ.