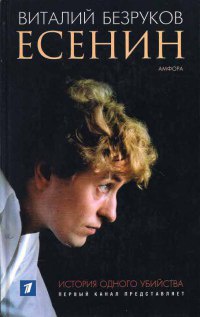Книга Сергей Есенин - Станислав Куняев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тройка, выполняя распоряжение Троцкого, повязала себя кровью. Есенин прочитал номер газеты, скользнул взглядом по фамилии председателя, и мысль мелькнула: «А это хорошо, что у меня приятели – евреи да в фаворе! Ишь времена-то какие! Геройского Думенку расстреляли!»
* * *
В июне Есенин в компании с Мариенгофом отправился в поездку на Кавказ в отдельном салон-вагоне в сопровождении Г. Р. Колобова. Маршрут разработали сами поэты, рассчитывавшие провести несколько показательных «имажинистских» выступлений в различных городах.
Ростов, Таганрог, Новочеркасск…
Гастроли сопровождались привычными скандалами и водкой. Зреть, что сотворено с Россией, трезвыми глазами было невозможно.
В спокойные минуты Есенин молча смотрел в окно, читал, думал. Невеселыми были эти думы, которыми он делился в письмах к харьковской знакомой Жене Лившиц.
«Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление… Трогает меня в этом только грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая сила мертвого, механического».
Не было ему, конечно, никакого дела до красот Кавказа после вида разоренной и изнасилованной России. Он еще пытался отвлечься то подтруниванием над Гришей Колобовым, то чтением Флобера, пока не увидел из окна вагона несущегося рядом с паровозом рыжего тоненького жеребенка, который постепенно отставал и наконец совсем пропал из виду.
Сам не свой ходил Есенин после этого зрелища. «Этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной».
Многим тогда казалось, что с окончанием братоубийственной гражданской войны наступит новая жизнь и русский крестьянин, оставив пулемет, возьмется за ручку деревянной сохи и руль стального трактора и устроит вечную счастливую жизнь, которая будет одинаково не похожа на жизнь дореволюционную и жуткую жизнь эпохи военного коммунизма.
Об этом мечтал Чаянов, этого страстно жаждал Клюев.
А Есенин видел и понимал все куда яснее.
«Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если построен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают…»
Как всегда, внутреннее не соответствовало внешнему. Публика рычала и свистела во время всех «кавказских гастролей». Афиши били по глазам и щекотали нервы. «Первое отделение: Мистерия. 1. Шестипсалмие. 2. Анафема критикам. 3. Раздел земного шара. Второе отделение: 1. Скулящие кобели. 2. Заря в животе. 3. Оплеванные гении. Третье отделение: 1. Хвост задрала заря. 2. Выкидыш звезд. Вечер ведут поэты Есенин, Мариенгоф и писатель Колобов…»
Совсем непохожим получился вечер в «Домино» после возвращения в Москву, где впервые прозвучал «Сорокоуст».
Сорокоуст – служба по умершему, совершаемая в церкви в течение 40 дней после смерти. Поэма Есенина напоминала скорее не заупокойную службу, а отчаянный крик человека, обреченного на гибель и все еще сопротивляющегося в последней агонии.
О первом исполнении поэмы вспоминал Иван Грузинов:
«Есенин только что вернулся в Москву… Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор.
– Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь…
Через две-три минуты Есенин на эстраде…
На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь: расположились на стульях, расставленных рядами, и за пустыми столиками.
Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт России, кто-то ему мешает, кто-то его «не признает». Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.
По-видимому, он ожидал протеста со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму… Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбы, и вдруг… никто не протестует…»
Там же, в кафе, Есенина внимательно слушал Валерий Брюсов.
Постаревший, много переживший символист, он ныне стремился играть роль некоего литературного арбитра, третейского судьи, который квалифицирует поэтов, отводит каждому свое место, определяет пути развития русской поэзии. Все это выглядело несколько комично – Брюсов превратился в обычного советского служащего. Снисходительно одобряя, иронически поощряя и едко издеваясь, он с улыбкой наблюдал за всеми теперешними «школами» и «школками», которые не могут закатить даже настоящего литературного скандала. Что и говорить, далеко им было всем, вместе взятым, до него в молодости! Все эти «желтые кофты», мушки на щеке, «скулящие кобели» и «беременные мужчины» мало что стоили в его глазах. Но… молодежь есть молодежь. На роду написано резвиться. «Блажен, кто смолоду был молод…»
В настоящий момент Брюсов неподвижно сидел и не отрывая глаз смотрел на светловолосого юношу, срывающимся голосом бросавшего в неподвижный и молчаливый зальчик:
Такого он не слышал за последнее время ни от кого из поэтов. Ранее совершенно не выделял Есенина в массе других. Бывший «новокрестьянин», нынешний «имажинист». А здесь… послышалось то, чего не было до сего дня в русской поэзии. Виду Брюсов, естественно, не подал.