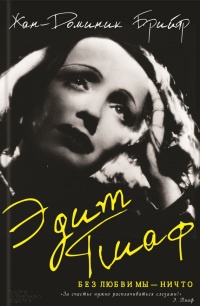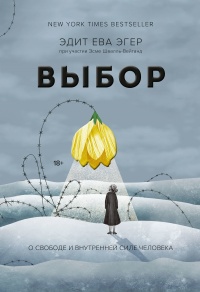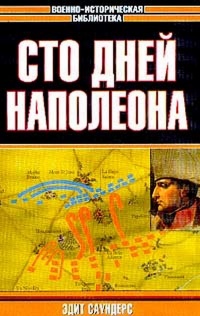Книга Эдит Пиаф. Я ни о чем не сожалею - Эдит Пиаф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Имя Эдит начинало приносить деньги. У нее не было недостатка в контрактах. Она получала три тысячи франков за концерт. Это было немало, но она могла бы получать гораздо больше. К сожалению, у нее не было никого, кто занимался бы ее делами. Иногда она выступала в двух местах за вечер. Получался роскошный заработок – шесть тысяч. Но деньги текли у нее из рук как песок. Во-первых, был «Биду-бар», который съедал немало. Во-вторых, черный рынок. Килограмм масла, стоивший ранее четыреста-пятьсот франков, в сорок четвертом году стал стоить тысячу двести, тысячу пятьсот. Повар Чанг вечером набивал холодильник продуктами, а к утру он оказывался пуст. У китайца была своя тактика.
– Мамамизель, он не любит масла; Мамамизель, он не любит, когда розбиф, жаркое не целый. Тогда моя унести домой.
И уносил. Чтобы не выбрасывать. У нашего Чанга была жена и пятеро детей. Всех надо было кормить. А у Эдит было много друзей; с одними она только что познакомилась, других знала несколько дней, и все хотели что-нибудь урвать. Каждый изобретал свой способ. Например, сидеть с мрачным видом. Она спрашивала:
– Что с тобой? Почему голову повесил? Выпей.
– Не могу. Душа не лежит. У меня неприятности.
– Любовные?
– Нет, денежные.
– Ну если дело только в этом, можно уладить.
Говоривший на это и рассчитывал.
Другие шептали Эдит на ухо: «Мой отец еврей, он старик. Его нужно переправить в свободную зону. Я боюсь за него. А сам на нуле». «Сколько надо?» – спрашивала Эдит. Тариф был от десяти до пятидесяти тысяч франков, в Испанию даже сто. Если Эдит не могла дать всю сумму, она давала хотя бы часть.
Встречались и женщины, чьих сыновей надо было укрыть от обязательной службы в Германии. Эдит давала деньги; через два-три месяца те же люди приходили с другой историей. Многие солдатские и офицерские лагеря в Германии объявили ее своим шефом. Она отправляла посылки. Для тех, кто сидел в лагерях, сердце Эдит было трехцветным, как французское знамя, а кошелек всегда открыт. «Я слишком любила солдат, – говорила она, – чтобы их бросить в беде».
Эдит не была тщеславной, но она гордилась своим именем, и тогда играли на этой струне, без конца произнося «мадам Пиаф». Совсем недавно ей говорили: «Эй, девчонка! Греби сюда, у тебя хорошенькие гляделки!» или «Отваливай, девчонка, хватит, надоела!» Легко понять, что она чувствовала, когда ее называли «мадам Пиаф».
– С вашим именем, мадам Пиаф, нужно носить песцовый мех.
– Ты что думаешь, Момона?
Попробуйте сказать ребенку, который блестящими глазами смотрит на рождественскую елку: «Это не для тебя». Но если бы только это! Наша новая квартира на улице Анатоль-де-ля-Форж была проходным двором, ночлежкой: туда приходили, уходили, оставались, спали где придется – на наших кроватях, в креслах, на полу. Получалось просто. Когда мы компанией выходили из «Биду-бара», обычно уже наступал комендантский час и метро не работало. «Заходите, переночуете, – говорила Эдит. – Выпьем по последней и перекусим».
Мы были беззащитны. В доме не было мужчины. Жаль, что этим мужчиной не стал Анри, добрый, красивый. Морщины на его лице свидетельствовали об уме, они были гармоничны, как план Парижа. В нем было что-то от Гавроша, и это очень нравилось Эдит, но в этом Гавроше чувствовалась порода. «Видишь, Момона, это такой тип людей – берут тебя за задницу так, что ты не можешь возразить. Мне это нравится». Она не лгала. Ни Эдит, ни я не могли подняться по лестнице впереди Анри без того, чтобы он нас не похлопал. Быстро и ловко! Для него этот жест был, скорее, проявлением вежливости и внимания.
Анри все время колебался; он хотел перейти жить к нам, но та женщина его крепко держала. Сколько из-за этого было сцен! Время от времени он объявлял: «Девочки, на этот раз решено. Готовьтесь, в будущем месяце переезжаю». Мы покупали ему трусы, носки, пижамы, рубашки – все необходимое по ценам черного рынка, без талонов, раскладывали по ящикам комода и радовались. Эдит говорила: «Осталась неделя! Скоро в доме будет мужчина. Все изменится».
Но Анри не приходил. Тогда Эдит в гневе выбрасывала все купленное, топтала ногами белье и вместе с ним свои надежды. Она кричала: «Отнеси все это на помойку!» Анри появлялся в дверях без чемодана. Какой актер! В глазах стояли слезы. «Эдит, прости. Она плакала, цеплялась за меня, я уступил. Дадим ей еще несколько дней…».
Это повторялось не один раз. Наконец мы поняли, что никогда он к нам не придет. Анри любил певиц, но больше всего он любил удобства. А та, вторая, была отличной хозяйкой. Она за ним хорошо смотрела. На нем всегда были отглаженные рубашки, безупречные складки на брюках, начищенные башмаки. Он выглядел так же элегантно, как Поль…
Если в доме не было мужчины, Эдит не знала удержу. Днем все шло более или менее нормально. Анри рассказывал ей разные истории. Он был в курсе всех событий, знал сплетни обо всех знаменитостях. Эдит любила перемывать косточки, и ей лучше было не попадаться на зубок. А самое главное – они с Анри очень много работали, и с ними всегда была Гит. В работе никого не было требовательнее Эдит. Ей аккомпанировали Даниэль Уайт, молодой человек лет двадцати семи, и Вальберг, чуть постарше. Она заставляла их вкалывать как каторжных. Но никто никогда не жаловался. Это маленькое существо было властно, как диктатор. Несмотря на бедлам, царивший в доме, несмотря на все безумства, Эдит всегда сохраняла ясный ум. Она бросалась в работу, как олимпийская чемпионка в бассейн. Ей всегда нужно было побить очередной рекорд. Она не знала усталости.
Я недоумевала: из чего она сделана? Откуда берет силы?.. Работа начиналась обычно часов в пять-шесть вечера и заканчивалась на рассвете. Если в это время шли концерты, то все начиналось около часу ночи.
Если Реймон научил ее технической стороне профессии, грамматике, то Анри объяснил ей, как этим пользоваться для того, чтобы подняться выше, чтобы стать Великой Пиаф. Ассо был учителем требовательным и властным. Конте не командовал, не проявлял упорства, он старался ее понять. Умел ее слушать, обсуждать вопросы – эхо очень помогало Эдит в ее поисках. Именно с ним, сама еще того не сознавая, она приобретала командную хватку и становилась той, кому в свою очередь в скором времени предстояло начать формировать других.
Эдит прочитывала сотни песен. У ней было совершенно точное представление о том, каким должен быть ее текст. «Песня – это рассказ. Публика должна в него верить. Для публики я воплощаю любовь. У меня все должно разрываться внутри и кричать – таков мой образ; я могу быть счастливой, но недолго, мой физический облик мне этого не позволяет. Мне нужны простые слова. Моя публика не думает, она как под дых получает то, о чем я пою. И в моих песнях должна быть поэзия, которая заставляет мечтать».
Когда Эдит выбирала наконец свою песню, ей играли мелодию. Слова и музыку она разучивала одновременно, никогда их не разделяла. «Они должны войти в меня вместе. В песне слова и музыка неотделимы друг от друга».
Если ей давали советы, которые она не принимала, она говорила: «Моя консерватория – улица. Мой ум – интуиция». После того как она выучивала песню, в работу включались автор и композитор. Для них начиналась драма, хождение по мукам. В разгар репетиции Эдит останавливалась, иногда настолько внезапно, что пианист продолжал играть. Тогда она кричала: «Стой!» Или: «Заткнись! Анри, замени мне это слово. Оно у меня не звучит правдиво! Я его и выговорить не могу, оно слишком сложно для меня».