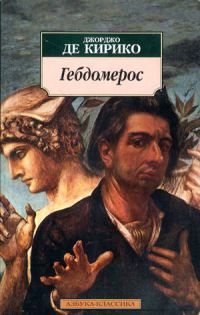Книга Последний Иерофант. Роман начала века о его конце - Владимир Шевельков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так они между собой и спорили, а я меж тем, не будь дурой, заметила, что у того, который в тельняшке и за княгиню меня приял, глаза такие уставшие. Много, знать, повидал, болезный! А у второго лукавые глазенки, живые да дерзкие, — молодой еще, наверное, все знать хочет, а того не ведает, что скоро состарится! Хе-хе! Этот ангелочек, молодой да зеленый, ближе всех ко мне стоял. Прижался он к моему ушку и спрашивает: «Как ваше фамилие?» А я ему без затей ответствовала: «Никаноровна я, так-то, брат!» Тогда словно подменили ангелочка моего. Он будто бы оступился, вздрогнул вдруг, а после говорит: «Не хотел, мол, вас обидеть и прошу прощения!» Стали они тут друг дружке меня перекидывать, точно мяч какой, а толстый-то возьми да и урони меня на пол: «Нет! Не канает Никаноровна! Не канает!» Жуть!
Думанский предупредительно заметил:
— Послушайте, а может, вам не стоит забираться на столь высокое ложе? Ведь, того и гляди, опять упадете!
Но Никаноровна, похоже, больше прислушивалась к голосам, звучавшим в ее голове.
— Мне нравится, когда страшно! — заявила она, глядя куда-то в потолок.
Викентий Алексеевич, оставив Никаноровну наедине с ее видениями, поспешил удалиться в отведенную ему комнату, где опять попытался забыться сном.
Слух Кесарева-Думанского внезапно «обласкал» надрывный вой Никаноровны:
— Отпустите! Отвяжитесь от меня! Говорю же вам, аспиды, фараоны, не Гликерия я!
За окном, по всей вероятности, была уже вторая половина дня. Адвокат тотчас очнулся от кошмарного сна-наваждения: «Господи! Как же это — я тут все сплю, а там…» Его точно мощной пружиной выкинуло из кресла, и через минуту он был уже внизу — во дворе. Заключенный в тело хама и убийцы с большой дороги, подгоняемый каким-то поистине мистическим ужасом и природной брезгливостью к грубо животному началу в человеке, Викентий Алексеевич торопился изо всех сил. Вот бы только успеть, только бы не погубить душу свою в этой омерзительной, грязной плоти! В любой момент тот, кто «квартирует» в его «узурпированном» теле, может нарваться на пулю или нож, и тогда ему уже не бывать в полном смысле самим собой — Викентием Думанским, известным обществу адвокатом… Но он буквально с физической болью постоянно ощущал и другое, то, что было страшнее собственной дикой метаморфозы, страшнее небытия — смертельная опасность нависла над Молли, угрожала самому дорогому для него и совершенно беззащитному существу! «Неужели она раньше никогда не слушала эти злосчастные „Корневильские колокола“?[67]Откуда только у нее возникла эта мысль — пригласить дядюшку на оперетку? И я тоже хорош — готов сейчас же исполнить любое ее желание, а ведь и у любимых бывают желания роковые… Да кто ж мог подумать, что произойдет эта „метемпсихоза“ и билеты достанутся хищному хаму, дорвавшемуся до роскоши? Легкая музыка, французские певички, ложи красного бархата — наверняка обрадовался, что я выбрал самые дорогие места… Bête, sal boucher!»[68]— Несчастный адвокат испытал тошнотворное ощущение, вспомнив опять, в какой грязи растворено его благородное ego.[69]
«Господи Всемогущий! Помоги мне встретить рабу Твою Марию и убедить, что ей нельзя сегодня быть в Михайловском. Пусть она примет меня за настоящего Кесарева, пусть даже осыплет проклятиями, пусть прогонит, но поверит — это единственный способ спасти ее. Если на то воля Твоя, не открывай ей сейчас всей истины, Боже Милосердный, хотя бы на этот вечер приоткрой ее внутренний взор!» — усердно молился Викентий Алексеевич перед скромным олеографическим образом Спаса Вседержителя в незнакомой часовне, в тишине безлюдного переулка. Он решил во что бы то ни стало попасть в особняк Савеловых и добиться встречи с Молли. Думанский был готов ко всему: глубокий боковой карман пальто оттягивал тяжелый гуляевский пистолет, в нагрудном отсчитывал драгоценное время золотой брегет, «позаимствованный» у Никаноровны. Прежде щепетильный, адвокат, несомненно, посетовал бы, что опустился до уровня авантюриста из бульварного романа, сейчас же ему было решительно не до того — цель, как никогда, оправдывала средства. Буквально на ходу он подготовил и записку, предостерегающую от посещения театра (на тот крайний случай, если ему самому не удастся попасть в апартаменты), чтобы спрятать ее в букет.
Выйдя на большую улицу, Викентий, однако, сразу понял, что добиться поставленной цели будет значительно сложнее, чем ему до этого казалось. До савеловского дома пришлось добираться почти через весь центр Петербурга — выйдя из Московской части, он каким-то чудом миновал Спасскую и теперь уже кружил в Казанской, но чем меньше оставалось пути до заветного дома в Адмиралтейской, тем — Думанский определенно не мог этого не замечать — все больше становилось кругом полицейских. Квартальные и околоточные, как им и полагалось, несли свою обычную службу на перекрестках, площадях, но помимо них улицы патрулировались казачьими и даже жандармскими разъездами, что явно указывало на усиленный режим службы. Последний факт был неоспорим: со всех афишных тумб, даже с фонарных столбов в самых людных местах — возле храмов и рынков, пялились на прохожего фотографические портреты Кесарева анфас, «украшенные» внушительной суммой с несколькими нулями, обещанной, как недвусмысленно следовало из сопроводительной подписи, всякому, кто поспособствует розыску и аресту «особо опасного государственного преступника». «Редкая персона удостаивается чести быть так щедро растиражированной по всем столичным углам, — с горькой иронией подумал Викентий Алексеевич. — Кесареву, значит, досталась уже слава Герострата,[70]только вот мне она совсем не к ли… — ни к чему. Да-с! Не помню, на кого бы еще так серьезно охотились коллеги из полицейского ведомства. Браво, господа!»
То тут то там наметанный глаз правоведа выхватывал из уличной толпы переодетых в штатское юрких филеров. Даже дворники возле каждой подворотни держали метлы и лопаты «штыком» вверх, готовые вонзить его вместе с бдительным взором острых как бритва татарских глаз во всякого подозрительного обывателя, пересекающего вверенное им для наведения внешнего порядка и внутреннего спокойствия пространство двора. Через такие кордоны и мышь не проскочит!
Загнанный внутрь предельно ненадежного телесного убежища, бедняга Думанский, несмотря на все ухищрения, предпринятые им, чтобы сделать облик «Кесарева» не столь отталкивающим и наименее похожим на объявленный в розыск «оригинал», не мог отделаться от ощущения, что внимание всех петербуржцев, оказавшихся в этот час на улице, сосредоточено именно на его личности. Казалось бы, он предусмотрел все: в неприметной рыночной парикмахерской с «преступной» физиономии навсегда исчезли омерзительные усики и эспаньолка пошлого хлыща-донжуана, да и одет «Кесарев» был теперь, разумеется, без дешевого шика, но, находясь в тесном окружении бесконечных чиновников и военных, прогуливающихся господ и вечно спешащих мастеровых, каких-то загадочных элегантных дам, институток и горничных, пожилых богомолок в штапельных платочках, вежливых гимназистов с золочеными и серебряными дубовыми веточками на форменном картузе, юрких уличных мальчишек-сорвиголов, наконец, среди действительно подозрительных субъектов-золоторотцев откуда-нибудь из Вяземской лавры,[71]перелицованный адвокат едва сдерживался от безумного желания устремиться вперед очертя голову, бегом сквозь всю эту пестроту столичных типов, то и дело приседая и петляя, запутывая след, как заяц, преследуемый прилежно науськанными борзыми и легавыми.