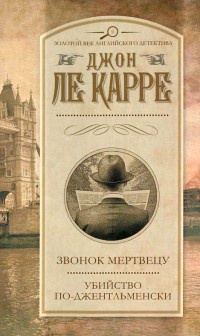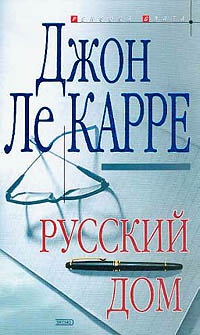Книга Секретный пилигрим - Джон Ле Карре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Будучи немного знаком с израильскими методами, я не удивился, хотя внутренне содрогнулся от перспективы вести допрос женщины, которая подверглась обработке этими методами. Я пережил подобное в Ирландии, когда мужчина в наглухо застегнутой рубахе, уставившись на меня мертвым взглядом, признавался в чем угодно.
– Вы сами ее допрашивали? – спросил я, снова обратив внимание на его мощные руки и упрямые скулы. При этом я, кажется, подумал о полковнике Ежи.
Он покачал головой.
– Невозможно.
– Почему?
Он вроде бы хотел что-то рассказать, затем передумал.
– На это у нас есть специалисты, – сказал он. – Ребята из Шинабет, такие же толковые, как Бритта. Они долго с ней работали. В семье.
И об этой любящей семье я наслышан, хотя ничего не сказал. Сионисты заманили ее в ловушку, прошептал мне в Тире информатор с налитыми кровью глазами. Из лагерей она со своим новым дружком Саидом и его тремя приятелями перебралась в Афины. Хорошие ребята. Способные. План заключался в том, чтобы сбить самолет компании “Эль-Аль” на подходе к Афинскому аэропорту. Ребята обзавелись ручным ракетным гранатометом и сняли дом на трассе полетов. Задача Бритты сводилась к тому, чтобы она, как не вызывающая подозрений европейская женщина, стояла в телефонной будке аэропорта с дешевеньким коротковолновым приемником в руках и передавала находящимся на крыше дома ребятам указания диспетчерской башни. Все было здорово подготовлено, сказал мой до смерти уставший информатор. Репетиции прошли идеально. Но операция провалилась.
Слушая его, я мысленно дополнял его рассказ, пытаясь представить, как действовала бы заранее предупрежденная служба: две группы захвата – одна на крышу, вторая – в телефонную будку; самолет – цель террористов – заранее предупрежден и без пассажиров садится в полной безопасности в Афинах; тот же самолет с прикованными к креслам террористами возвращается на родину в Тель-Авив. Интересно, как они с ней поступят? Предадут суду или, поторговавшись, обменяют с выгодой для себя?
– Что произошло с ее ребятами из Афин? – спросил я полковника, пренебрегая указаниями Лондона не выказывать любопытства в подобных обстоятельствах.
– С ребятами? Она ничего об этих ребятах не знает. Афины? А где эти Афины? Она невинная немецкая туристка, на отдыхе в Эйлате. Мы ее украли, мы накачали ее наркотиками, мы бросили ее в тюрьму, а теперь обвиняем в пропаганде. Она хочет, чтобы мы доказали обратное, потому что знает, что нам это не удастся. Вы еще что-то хотите знать? Спросите Бритту, будьте любезны.
Еще большее недоумение вызвало у меня то, что, когда мы вышли из джипа, он положил мне руку на плечо и как бы пожелал успехов.
– Делайте с ней, что хотите, – сказал он. – Mazel tov.
Мне становилось страшно от того, что меня могло ожидать.
Коренастая женщина в военной форме приняла нас в опрятном кабинете. Уборщиков в тюрьме предостаточно, подумал я. Ее звали капитан Леви, и едва ли она могла быть тюремщиком Бритты. Она говорила по-английски, как школьная учительница из небольшого американского городка, но несколько медленнее и более осторожно. У нее были мигающие глаза, короткие седые волосы и взгляд человека, смирившегося с судьбой. Тюремная жизнь оставила на ее лице свой сероватый налет. Но, когда она складывала свои ручки, у меня возникало ощущение, что она, должно быть, занимается вязанием для своих внуков.
– Бритта очень умная, – сказала она извиняющимся тоном. – Умному мужчине допрашивать умную женщину бывает иногда трудно. У вас есть дочь, сэр?
Я вовсе не собирался снабжать ее своими анкетными данными и потому сказал “нет”, что, впрочем, соответствовало действительности.
– Жаль. Но не важно. Может, еще будет. Такой мужчина – у вас еще все впереди. Вы говорите по-немецки?
– Да.
– Тогда вам повезло. Вы можете общаться с ней на ее языке. Так вам удастся лучше ее узнать. Мы с Бриттой можем говорить только на английском. Я говорю по-английски как мой покойный муж, который был американцем. Бритта говорит по-английски как ее покойный любовник, который был ирландцем. Тель-Авив разрешил дать вам два часа. Двух часов вам будет достаточно? Если понадобится больше, мы их спросим, может, они согласятся. А может, и двух часов окажется слишком много. Посмотрим.
– Вы очень добры, – сказал я.
– Добра? Не знаю. Может, нужно быть менее доброй. Может, мы слишком много делаем добра. Увидите сами.
Затем она распорядилась принести кофе и доставить Бритту, а мы с полковником заняли свои места по одну сторону простого деревянного стола.
Однако капитан Леви за стол не села. Видимо, потому, что не собиралась принимать участия в разговоре. Она примостилась у двери на кухонном стуле с прямой спинкой и полузакрыла глаза, будто в предвкушении концерта. Даже когда Бритта в сопровождении двух охранниц вошла в комнату, она приподняла глаза ровно настолько, чтобы увидеть, как три пары ног прошествовали мимо нее в глубь кабинета и остановились. Одна из охранниц подвинула стул для Бритты, а вторая сняла с нее наручники. Охранницы вышли, и мы придвинулись к столу.
Мне хотелось бы точно нарисовать вам сцену, какой она виделась мне со своего места: справа от меня сидел полковник, Бритта – прямо напротив, по ту сторону стола, а склоненная седая голова капитана Леви – почти позади нее, но несколько левее, на лице задумчивая полуулыбка. В течение всей беседы она не переменила позы, застыв, как восковая фигура. Ее многозначительная полуулыбка, нисколько не меняясь, не покидала лица. Поза выражала сосредоточенность, какое-то усилие, будто она напрягалась, чтобы уловить фразы и слова, которые могла понять благодаря знанию идиш и английского, тем более что Бритта, уроженка Бремена, говорила на чистом литературном немецком языке, который легче понять.
Бритта же, несомненно, была превосходным экземпляром своей породы. Она была, по их выражению, “бела, как булка”, высока, с развернутыми плечами и хорошими формами; у нее были широко расставленные дерзкие голубые глаза и симпатичный волевой подбородок. Она была ровесницей Моники, одинакового с ней роста и – я не мог об этом не подумать – такой же, наверное, чувственной, как Моника. Мое подозрение, что с ней жестоко обращались, улетучилось, как только она вошла. Она держалась, словно балерина, но с более явными признаками интеллекта и с большим чувством реальности, чем это бывает у большинства танцовщиц. Она хорошо смотрелась бы в костюме для тенниса или в тирольском женском наряде, и я прикинул, что в свое время она, видимо, носила и то, и другое. Но даже в тюремной одежде она неплохо выглядела, повязав вокруг талии какой-то матерчатый пояс и раскидав по плечам копну своих белокурых волос. Как только ей сняли наручники, она протянула мне руку, одновременно присев, как школьница, в книксене. Трудно сказать, какой смысл вкладывался в это: ирония или уважение. Она пожала руку по-мужски, но несколько задержала ее в своей. На ее лице не было косметики, но она ей и не требовалась.
– Und mit wem hab'ich die Ehre? – поинтересовалась она вежливо, но с вызовом. – Так с кем я имею честь говорить?