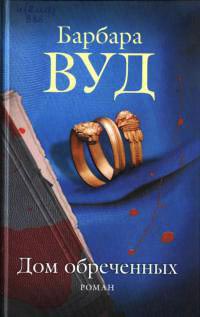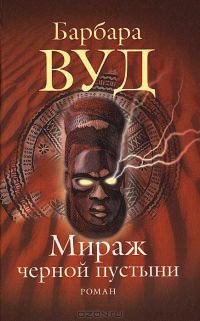Книга Благословенный камень - Барбара Вуд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он подумал об Амелии, которая стояла и ждала снаружи.
У мужчины только одно подлинное достояние: его доброе имя. Его можно лишить земель, состояния, всего, что он достиг, но до тех пор, пока у него есть его доброе имя, его нельзя сломить. Это — единственное, что мужчина по праву должен защищать любой ценой. Нет худшего унижения для римлянина, чем быть выставленным на посмешище. Быть мишенью для насмешек — это не для него, не для Корнелия Гая Вителлия, в чьих жилах текла более чистая кровь патрициев, чем у самого императора, хотя Корнелиус был бы последним, кто осмелился бы напомнить об этом Нерону. Отправить неверную жену в ссылку — слишком просто, это поступок, достойный труса. Корнелий показал всему Риму, из какого прочного металла он сделан, оставив ее при себе в вечное назидание другим женам.
Их брак был делом давно решенным, обручение одиннадцатилетнего Корнелия и восьмилетней Амелии знаменовало объединение двух влиятельных семей. Через восемь лет они стали мужем и женой, а еще через пять — родителями. После того как у них родился первенец, которого они назвали в честь отца, Амелия беременела еще много раз — у нее было несколько выкидышей, мертворожденные и нормальные здоровые младенцы — в общем, это было в порядке вещей. С годами Корнелий приобрел репутацию хорошего оратора и успешного адвоката, а Амелия считалась образцовой женой. О лучшем и мечтать было нельзя.
А потом она сдружилась с Агриппиной, матерью Нерона и самой влиятельной женщиной в Римской империи, женщиной, которая приходила в цирк, одетая в тогу, сотканную целиком из золотых нитей, которая ослепляла зрителей! Агриппины уже нет в живых, слава богам, но Корнелиус не забыл того унижения, которое он пережил в цирке шесть лет назад, когда они с Амелией, которая была тогда беременна, зашли в императорскую ложу в качестве гостей, и толпа зрителей, повскакав с мест, издала восторженный рев. Корнелиус поднял руки в знак того, что он принимает этот льстивый знак внимания, и тогда Агриппина проговорила сквозь зубы: «Они приветствуют не тебя, а твою жену, идиот».
Откуда ему было знать, что Амелия лично уговорила любимого публикой римского возницу, который уже удалился на покой, выйти на арену в последний раз. Дела жены не волновали мужа — главное, чтобы она правильно воспитывала детей, содержала в порядке дом и поддерживала доброе имя и репутацию мужа. А все остальные женские дела — благотворительность, застолья, покупки — были не его заботой. Так откуда же было знать Корнелиусу, что Амелия возглавила делегацию патрицианок, которые льстили, умасливали, молили заносчивого возницу, чтобы тот вернулся на арену ради одного последнего заезда? Амелии удалось сделать то, что не удалось другим, а поскольку римская публика чуть ли не боготворила этого возницу, то чернь и саму Амелию возвела до статуса героини.
А муж ни о чем не догадывался.
Над Корнелием после этого потешались еще несколько месяцев. Народ сочинял сатирические стихи — стены домов были исписаны эпиграммами, в которых имя «Корнелий Вителлий» стало синонимом безмозглого мужа. И как он ни старался прекратить насмешки, выглядел еще большим глупцом в их глазах. Чувства унижения и возмущения пожирали его изнутри, как рак, пока ему не пришла в голову мысль об отмщении. Он не сможет низвести Амелию с того пьедестала, на который ее возвел народ, но спесь с нее он собьет. Даже если она родит здорового мальчика, он не примет его и выбросит в мусорную яму. По счастью, она родила девчонку, и остальные были либо невнимательны, либо не осмелились сомневаться в правдивости его обвинений. Ребенка, несмотря на отчаянные мольбы Амелии, выбросили на свалку, — на волю богов, на поживу птицам и крысам, — и величие Корнелия было восстановлено.
А потом она залезла в постель к другому — да подумать только, к какому-то поэтишке! Да к тому же у нее не хватило ума скрыть свой проступок, так что вскоре всем стало об этом известно. И Корнелию опять пришлось действовать. Но он не стал высылать ее из Рима. Раз уж чернь ее так любит, пусть чернь не забывает о том, что она шлюха.
Рабы наконец привели в порядок тогу, и Корнелий отступил назад, чтобы посмотреть на себя в высокое зеркало из отполированной меди.
— Я так понимаю, ты собралась к еврейке? — спросил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. Корнелий никогда не называл Рахиль по имени. Он не любил евреев и не поддерживал имперскую политику терпимости по отношению к этой замкнутой секте. Он заставил себя забыть, что именно муж этой еврейки, врач по имени Соломон, спас жизнь одному из его детей.
Амелия наконец показалась в дверях:
— Если ты разрешишь.
Он оправил тогу, повертевшись перед зеркалом, отрывисто отдал приказание рабам, внимательно осмотрел свои идеально ухоженные ногти и спросил:
— А ты действительно хочешь к ней пойти?
— Да, Корнелий. — Ей отчаянно хотелось выйти из дома. Она рассчитывала заехать от Рахиль в книжную лавку рядом с Форумом — посмотреть, не появились ли там новые сборники стихов. Только она не сможет остаться там надолго, к тому же книгу придется надежно спрятать, чтобы ее не увидел Корнелий.
Он, наконец, повернулся к ней:
— Ты не надела мой подарок. — У нее дрогнуло сердце. Ожерелье!
— Я думала, оно слишком дорогое, чтобы…
— Еврейка ведь твоя лучшая подруга. Я думал, ты захочешь ей его показать.
Она сглотнула, в горле у нее пересохло.
— Да, Корнелий. Я надену его, если хочешь.
— Тогда ты можешь ехать к ней.
Она попыталась не выказать своего громадного облегчения.
— Домой вернешься до захода солнца, — добавил он. — У нас сегодня вечером гости.
— Кто?..
— И ты не будешь заходить в книжные лавки рядом с Форумом. От еврейки отправишься прямиком домой, если ослушаешься — мне станет об этом известно.
Она прошептала, склонив голову:
— Хорошо, Корнелий.
Он кивком головы отпустил ее, и она снова пошла в спальню, где достала из шкатулки золотое ожерелье с ненавистным голубым кристаллом и стала надевать его через голову. Как только оно тяжело легло ей на грудь, ее тут же обступили тени. Но не оставалось ничего другого, как носить с собой призрак египетской царицы.
Амелия радостно впитывала в себя звуки и запахи Рима, пока ее несли по улицам в занавешенном паланкине. Обоняние Амелии, привыкшей к свежему деревенскому воздуху, поначалу оскорбили, как всегда в первые дни возвращения в город, вонь и миазмы, окутывавшие столицу, источавшую смрад в любую погоду. Ей не нужно было отдергивать занавеску — она и так знала, что сейчас ее проносят по улице Валяльщиков, потому что валяльщики для обработки шерсти используют мочу и поэтому выставляют за дверь своих лавок горшки, чтобы прохожие могли в них помочиться. Эта вонь была такой же привычной, как аромат свежеиспеченного хлеба. Другие улицы были усеяны животными и человеческими экскрементами — они нагревались на солнце, и исходившее от них зловоние перемешивалось с запахами жарящейся и гнилой рыбы. Но сильнее всего — и, по мнению Амелии, приятнее всего, там пахло людьми.