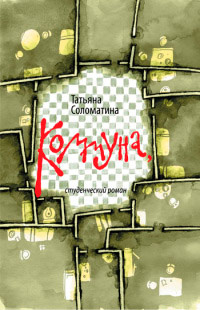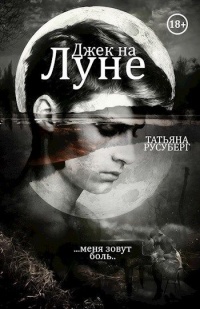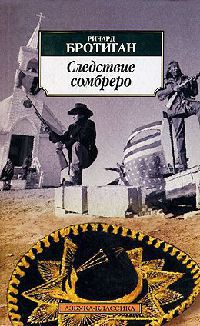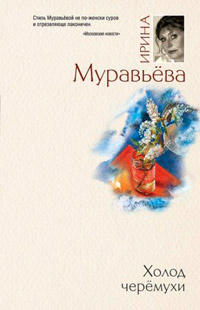Книга Фальшивка - Николас Борн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он сунул под голову вторую подушку. Все еще в городской квартире? Но он же слышал, только что, дети звали! Он втыкал в землю палочки и привязывал кустики роз. Темные аэропорты как крематории. Местами трава разрослась, большие клочья травы, коса врезается в кучку земли над кротовой норой. Куришь лежа, а кажется, будто сидишь в темноте и куришь. Вокруг сверкают витрины, окна кинотеатров, в них – афиши, рекламные плакаты с выцветшими красками, дальше дверь бара, заваленная грудами камней и щебня, дальше шныряют, по-крысьи, тела в темных одеждах.
Ты замкнут в кольцах плоти. Все разрастается, теряя форму. Замкнута старая любовь, новой нет. Но плоть, плотность мяса, она ведь защищает. Грета со своими мыслями одна на террасе, читает «Аду» Набокова. Несколько раз он выходит к ней, чтобы прикурить сигарету от ее зажигалки. Она посматривает с усмешкой, беспечно, беспощадно, жена и женщина, его жена или женщина, которую лишь случайно занесло в его жизнь. Иногда они одновременно находились в Гамбурге, но не встречались. Она сказала, что он ей видится смутно. А вот он видит ее ясно, что, впрочем, не значит понимает.
И никогда он не спрашивал ее о любовниках. А она своим молчанием отплачивала ему за то, что сама же его и ранила. Силы убывают, и у него, и у нее, все бессильно. Никому, кажется, и не нужна теперь сила. Если хочешь быть дельным и полезным, сила не нужна, сила только мешает. Когда он на велосипеде проезжает по улицам районного городка, то обращает внимание на белые запрокинутые оконные рамы. Болезнь иногда становится мелкой и привычной, почти как нормальное состояние; когда же? – когда читаешь, но видишь не текст, а пористую, словно пчелиные соты, сбитую в комок, урезанную реальность, подлинную реальность, и то, что действительно происходит или действительно произошло, это ее иллюстрация. Он мечтал: быть тяжело раненным, испытать это на собственном опыте, быть пристегнутым ремнями к носилкам, погруженным в самолет. И все написанное раньше рушится, набор рассыпан, в бумажных складах пожар. Грета ставит ему холодные компрессы на икры. Он перенес операцию, и вот открывает глаза. Нет, никогда больше он не будет бродить в архивах, подбирая крохи чужого опыта. Архивы – жилище крыс. Кажется, он что-то сказал Грете? Если тад, то слишком решительным, непререкаемым тоном – она смотрит удивленно, а он жалеет, что вовремя не прикусил язык. Но продолжает говорить, чем лишь ухудшает дело, а под конец говорит уже только из страха – страха молчания. Наверное, раньше он или ничего не говорил, или произносил лишь несколько обдуманных заранее слов. С той стороны, где рядом с ним шла Грета, он был мертвым, во всяком случае старым или оглохшим, не желающим ничего знать о ее изменах, не иметь информации, не быть посвященным. И потому легко было оставаться равнодушным и взращивать в себе все большее равнодушие. Но все это – раскаяние и твердое намерение – принадлежит прошлому, и он должен одержать над ним победу, что-то должно появиться – зримо новое, что осознаешь и схватишь. Поэтому он до сих пор и не позвонил Грете, прежде надо собраться, измениться и найти точные слова, чтобы определить перемену в себе.
Один из самых плохих вечеров у них с Гретой был всего-то три недели назад. Смотрели телевизор, пили вино, бутылкам счет не вели. Уже довольно поздно начался детектив, не бог весть что, расследование убийства, в сюжете не было ничего, кроме неожиданных поворотов и находок, вопреки всем законам вероятности, а впрочем, и невероятности; он с самого начала хотел заговорить с Гретой и не мог, все время казалось, что вместо слов изо рта вылетят громадные пузыри, к тому же каждый раз, когда он готовился заговорить, момент из подходящего становился неподходящим – герои фильма произносили слова, которые поразительно точно подходили к его ситуации с Гретой. Хорошо помнил, как женщина в том фильме крикнула: «Сегодня же от тебя уйду!» – и он невольно бросил быстрый взгляд на Грету, но она, словно оцепенев, не сводила глаз с экрана. Когда фильм закончился, они быстро напились, уже не стараясь скрыть, для чего это нужно, допили едва начатую бутылку. Что было потом… Он помнил только, что пришел к ней, она, полураздетая, стояла у кровати, и он опустился на колени и обнял ее ноги. Нет избавления от твоей беды и напряженности. Грета не бросила его – это можно объяснить лишь тем, что она его презирает да еще, наверное, жалеет. Худо дело. Однажды она, разбив тарелку, подмела осколки с такой оскорбительной небрежностью, словно брезгует даже вещами, которые служат им обоим.
Когда он – редко – тянулся к Грете или задумчиво разглядывал тонкие шрамы на своих запястьях, или замечал, что дети – так неожиданно – смотрят на него оценивающим взглядом, или когда схватил за шишковатую голову сантехника Вольфа, то всякий раз знал: это вынесен приговор, начертан на нем самом знак; пророчество, явственно зримая мета, непреклонное мановение. Ты был и остался непостижимым существом, засевшим в засаде, готовящим западню для репортера-газетчика.
В здании издательства, его коридорах, с их скромностью, на самом деле – пышностью, в его мерно колышущемся воздухе вернулось, слава богу, чувство, что опять пошел в какой-то упряжке. Начало одиннадцатого, поздновато, но он все-таки заглянул в свой кабинет, нанес визит вежливости – именно так можно это назвать, подумал он. Не дольше чем требуется, чтобы неторопливым довольным взглядом обвести письменный стол и стеллажи с книгами. Дверь кабинета закрыл без всякого волнения, поднялся в лифте наверх. Здесь, в коридоре, его обгоняли коллеги, все куда-то спешили, здоровались с ним, будто подбадривая отстающего на дистанции, все тащили под мышкой большие блокноты, стандартные, размера машинописной страницы, и лишь теперь Лашен сообразил, что, наверное, будут говорить какие-то вещи, которые полезно записать для себя, он об этом и не подумал. Зато очень даже приятно, что он пришел с пустыми руками и что за длинным столом свободных мест уже нет – он сел в углу, словно гость, прибывший по особому приглашению. Некоторые коллеги кивнули с таким видом, будто благодаря его присутствию уже чувствуют себя среди избранных. Он вежливо кивнул в ответ, но так быстро, что на том всякое общение было закончено и никто уже не мог бы подсесть к нему. Он услышал обрывки того, что говорил «заведующий зарубежным отделом»: «В фокусе нашего внимания должны теперь находиться не…, а напротив…» Дверь еще несколько раз открывалась, и опоздавшие на цыпочках прокрадывались к незанятым стульям. Взбудораженные, словно прибежавшие после какой-то дикой драки, однако, несмотря на их отчаянные потуги не привлекать к себе внимания, все глаза устремлялись на них. Тому, кто хотел бы остаться незамеченным, пришлось бы ворваться с грохотом.
Это здание – лифты, длинные коридоры, просторные кабинеты, полные чистейшего кондиционированного воздуха и желтоватого света, четкие линии, длинный стол в конференц-зале, мебель и оборудование помещений для деловых переговоров… – сама Федеративная Республика в миниатюре. Страх новизны здесь одержал решительную победу над отвращением к затхлому старью. Но Лашен в то утро радовался, ведь его ситуация изменилась. Ничего не надо говорить, не надо удивлять чем-то коллег. Вошел Хофман и немилосердно пнул ботинком ножку стула. Увидев его, Лашен пригнулся, чтобы потрафить Хофману, – пусть чувствует свое превосходство. Какие грандиозные события разыгрываются в помещениях редакций. В сущности, любые события в мире происходят только здесь; не гремят взрывы, не проходят «артерии», но здесь без особых затрат скромно делается мировая история. Остается лишь четкость этих персонажей, сидящих здесь сотрудников, четкость, благодаря которой ни один из них не хотел бы стать другим, а хотел жить в ладу с самим собой, с окружающими и с текущим моментом. Сколько патетики в этих переполненных окурками пепельницах, которые курильщики передвигают друг другу по столу; что-то есть гиблое в этих пепельницах, сулящее разрушение, близкую катастрофу. Он вздрогнул и отнял ладони от лица, услышав, что назвали его имя.