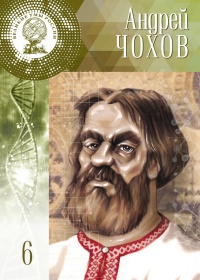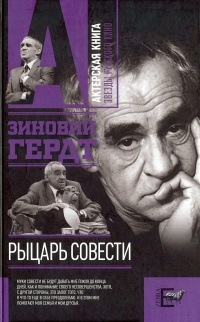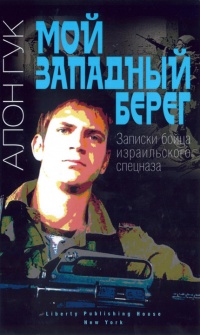Книга Обмененные головы - Леонид Гиршович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На почте очередь – как всегда или в честь меня, не знаю, я здесь редкий гость. Служащий, прежде чем взять мой конверт, решил высморкаться. (Вот тоже повод для германофобии – если кто их собирает. Люди здесь действительно сморкаются громче и чаще, а главное, самоуважительней, чем в иных краях. В нежнейшем месте лоэнгриновской оркестровой кантилены, на заключительном morendo тоники кто-то как безумный вдруг начинает трубить в носовой платок. Должно быть, считается, что раз это продиктовано нуждами гигиены, то есть здоровья, то церемониться нечего; император Клавдий исходил из тех же приоритетов добра над красотою, повелевая… ладно, Бог с ним, что он там своим обжорам повелевал.) Не спеша выпотрошив обе ноздри, служащий в окошке занялся моим конвертом: взвесил, сходил за каким-то справочником, нашел, что в нем сказано насчет Израиля, наотрывал целую радугу марок. Затем отсчитал сдачу с полсотни. У меня не было меньше – так он назло, что ли, мне надавал столько мелочи. Пока я жадно сгребал серебро, очередь терпеливо дышала мне в спину. Ага, спасибо – Петра уже успела наклеить марки; а все же приятно, когда о тебе ктото хоть раз позаботится. Петра, а правда, вышла бы за меня замуж? Она молча указывает глазами на почтовый ящик, дескать, дурачок, опускай свое письмо, и пошли – молча, но ласково; в ней даже появилась какая-то женственность.
Часа через два после вселения ко мне Петры раздался телефонный звонок – я немножко занимался и замешкался. В программе предстоявшего концерта был «Художник Матис» (не Матисс) , а там было что поиграть. Хиндемит – возможно, самый близкий мне композитор двадцатого века, во всяком случае, последняя надежда на спасение европейской музыки – всеми четырьмя лапками увязшей в музыкальной драме и вот уже более ста лет в ней гниющей… опасаюсь, что уже сгнившей. Только Хиндемит слабоват, не потянуть ему – тут надо быть солнечно-гениальным.
Доротея Кунце – собственной персоной. Нам надо встретиться и поговорить. Я всегда к ее услугам (и, если она помнит, я всегда только этого и желал) – но, фрау Кунце, начистоту. Когда ей меня ждать – сегодня, завтра? Нет, к сожалению, сегодня у меня спектакль (срывание всех и всяческих масок уже состоялось). Завтра после репетиции между тремя и четырьмя часами я буду. Хорошо, она меня ждет.
Я обсудил этот звонок с Петрой, которая, надо сказать, восприняла его очень спокойно. Ей нравилось смотреть, растянувшись на диване, на меня – зубрившего такт за тактом фугу из «Искушения св. Антония». Но потом «очарование новизны» прошло, скрипач превратился в свистящий над ухом чайник, который нельзя выключитъ, она перебралась в спальню. Через пять минут (условных – когда я играю на скрипке, чувство времени, в моем случае острое, меня покидает), – через «пять минут» она выходит с пистолетом. Я растерялся, не зная, как быть: возвести на себя напраслину или сказать ей все как есть… А, плевать! Скажу правду – не маленькая девочка. Пистолет, который она нашла у меня под подушкой (от нее был спрятан – смешно сказать куда)… словом, я понимаю, что игрушечный пистолет под подушкой выставляет человека в довольно глупом свете, но, купленный только что в «Вулворте», он предназначался для одной-единственной цели: я хотел проверить, мог ли Кунце левой рукой выстрелить себе в сердце…Ты с ума сошел…
Больше ничего не сказала, вернулась с пистолетом в спальню. Если будешь проверять (кричу я), то учти, что настоящий, в отличие от пластмассового, что-то весит да еще в момент выстрела тряхнет руку, как при дружеском рукопожатии.
Петра не выходила из спальни долго – «переваривала». Когда вышла, то больше мы этой темы не касались – как и других, впрочем. Перебрасывались редкими, ничего не значившими фразами, словно пожилые немецкие супруги на природе. Может быть, она хочет сходить сегодня на «Дочь Иеффая»? Нет. Ключи я оставляю. Если вдруг, мало ли, ей понадобится выйти, она знает, куда их положить. А завтра сделаем вторую пару. Ну, Петрушка, я через три часа вернусь.
Под «Дочь Иеффая» – которую можно было играть на автопилоте, это не кунцевские «Головы» – я размышлял; чувствовал же я себя так, словно на завтра была назначена дуэль. Литературных аналогий – миллион, в подтверждение того, что я не живу как человек, я – читаюсь , я книга и читатель в одном лице. Предстояло больше чем дуэль. Рисовался поединок между старым нацистом и израильским солдатом. Если б тогда, в сорок третьем, над Освенцимом, над Варшавой вдруг появились израильские парашютисты – сколько слез было бы пролито читателями.
Но дуэли не будет. Я снова и снова ставлю себя на их место. Допустим, мне расставляют ловушку: я знаю слишком много, чтобы оставаться в живых, – хотя о главном моем открытии они еще не подозревают, но не важно, достаточно снимка, верней, того, что написано на обороте. Они убийцы, психологических проблем у них нет. Но вот технические? Петра знает, где я, и ждет моего возвращения – я этого скрывать не буду. С другой стороны, снимок все равно не со мной и вообще не у меня, и никакая сила не помешает ему прибыть в Израиль. Нет, жизнь моя застрахована надежно. А что касается торга, то что они мне могут предложить за фотографию, кроме денег, даже очень большой суммы? Зато я бы мог написать книгу – между прочим, тоже не бесплатно. Но прежде всего это бы принесло мне славу. Настоящую славу, несоизмеримую с чьей-то там дирижерской известностью. Скандал, расследование – вплоть до баллистической экспертизы. Для кого-то это обернется катастрофой: для Петры, для этого мальчишки Тобиаса, для Инго. Даже если за давностью лет преступники будут от наказания освобождены, все подробности всплывут.
Это был колоссальный соблазн, и я его не отринул. Я уговаривал себя, что Клюки и Доротею мне не жалко: они постоянно жили под знаком совершенного ими злодейства, такая жизнь все равно ад в преддверье ада – хуже им не будет. А Тобиасу даже лучше выбраться на свежий воздух. (Поймал себя на том, что ни разу не полюбопытствовал, зачем это было сделано. Конечно, разгадка и этого не за горами, раз известно, что было сделано… тогда меня это не волновало. Даже сама постановка вопроса казалась нелепой: что значит искать мотив – зло творит себя не задумываясь.)
Так я рассуждаю, пребывая двумя метрами ниже уровня сцены. Музыка идет, музыка божественная.
Ария Иеффая в конце невероятна. Каждый раз я безотчетно ее жду. Справа стена, завершающаяся отороченным бархатом барьером; слева действуют лбы, головы, бюсты – если певец совсем выдвинется на авансцену, то она ампутирует ему только голени. За барьером публики не видно – но здесь хирургия другого рода. На бархатной опушке может валяться позабытая кем-то кисть, чаще женская, реже мужская. Сегодня это был обрубок вдвойне: у сиротливо лежавшей кисти недоставало нескольких пальцев.
Прежде чем позвонить в собственную квартиру, носком я приподнял половичок – почему-то в полной уверенности, что под ним будет ключ. Нет, Петру я нашел в таком же состоянии, в каком и оставил, если не еще более подавленной – «более убитой» ведь не скажешь: убийство, как и беременность, относительным не бывает. В ней появилась какая-то судорожность – в словах, жестах (все глубже проникает в его тело яд Лернейской гидры – как сказано у Софокла). Ни о какой близости между нами этой ночью не могло быть и речи. Я накормил ее валиумом – который сам принимал одно время, – после чего она до утра спала. В отличие от меня.