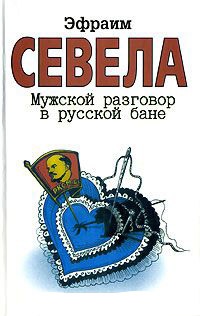Книга Тибетское Евангелие - Елена Крюкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Ночь. Всегда ночь. Родишься ночью. Умрешь ночью. Никто не знает дня своей смерти; и не празднует его, как день рожденья. А ведь это тоже — праздник».
Вскинул глаза.
Призрак!
Нет; явь.
Прямо по берегу Озера ко мне шла девушка в длинном черном, в пол, с блестками, концертном платье. В туфлях на каблучках. И подкашивались, подламывались на острых и гладких камнях ее неумелые детские ноги.
Она. Органистка. Лидия.
— Лидия, — выдохнул я, и парок завился у меня изо рта, — ты мне снишься!
Она молчала и все шла, и близко, рядом уже дышала.
И у нее в руках — палочка странная.
Ближе, еще ближе.
Она подошла и протянула мне флейту.
— Я не могу, — голос вспыхнул и погас, — я руку-то протяну, а ты меня… с собой утащишь…
— Не бойся, — смех похож на мяуканье котенка, — я не погублю тебя.
Я повернул обе руки ладонями вверх.
— Ну давай! Только не жалей потом ни о чем…
— Я никогда ни о чем не жалею, — еле слышно, нежно шепнула она, и шепот осыпался из воздуха мне под ноги голубыми осколками льда.
Флейта ожгла мне голые руки.
— Да ты совсем замерз.
Снова смеется; и снова сердце дрожит.
Что такое сон? А явь что такое?
Обернулась. Лодку черную увидала.
— О, лодка! Чудо! Значит, мы можем…
Не договорила. Я понял.
Шагнул к ней пьяный от радости, шагнул по тучам!
Если б мог — и по воде бы…
А что… и могу…
Попятилась. Отступила.
Я — еще шаг.
И еще на шаг дальше она.
— Ну так что ты… Переверни… К воде подтяни…
Я делал все так, как приказывала она.
Тяжеленная лодка — перед бурей едва приподнял, чтобы подлезть — внезапно тяжесть утратила. Легкое перышко. И сам я легкий, бестелесный. Счастье.
Нос лодки вошел в ночную воду. Изумрудом, болотной смертной тоской отсвечивала гладь. В небесах буря не унялась еще, а Байкал — гладкое бабье зеркало. Зеленое зерцало воли и веры моей. Обернулся я к Лидии. Холодно ж ей на ветру в платьишке-то одном!
— Прыгай!
Лидия сделала шаг, еще шаг, утопила длинный концертный каблук в галечной россыпи. Нагло, беззастенчиво задрала юбку, чтобы ловчей в лодку запрыгнуть. Вот она в лодке уже. Смеется. Лицо белое. Кудряшки смешные. Юница совсем. Даже страшно такую обнять старику. Да и не смогу. Я ее просто покатаю. Такая ночь.
— Эх ты! А весел-то и нет!
Я закинул ногу. Вот я в лодке, рядом с мечтой моей. Вот, думаю, хороший сон мне снится, подольше бы не просыпаться.
— И цепь! Гляди! Толстая… чугунная!
Глядел, как избитый людьми бык, тупо, исподлобья, ревниво, на черную цепь: ах ты, лодка-то на цепи, как собака злая, а я и не приметил.
Слышишь, старикан Василий! Ты же мальчик Исса на самом-то деле!
Хоть я и Исса, а мальчик еще, я взглядом такую крепкую цепь не разобью.
— Пес с ней, с цепью, — сказал я. Совсем рядом были белые щеки, и белые зубы, и белые светлые кудерьки. Нежнейший запах женщины, девушки. Девочки, что еще не была с мужчиной, еще не рожала. «Я дам тебе это все. Я». — Нам она не помеха.
Руки сами сдернули с плеч зипун. Руки закутали ее, дрожащую на ветру, в тепло, в овечью шкуру. Притиснули курячьи хрупкие косточки к груди.
«Ух ты, какая тонкая, нежная. Да я ж ее раздавлю, если грубо».
Чуть ослабил хватку.
И тогда она сама, белая Лидия, обхватила меня белыми, голыми по локоть, торчащими из черных звездных рукавов тонкими руками за ствол кедровой, смолистой, старой шеи.
Единое в двух, и двое в одном. Это мои губы играют на флейте? Я утратил «я», и это верно. Правильно это. Так надо. Мы всё делали правильно, я знал. Что-то тайное, пугающее происходило. Объятья объятьями, но мы будто все более отдалялись друг от друга телесно. А внутренним, напротив, крепко сцеплялись; пропитывались друг другом, как кусок хлеба вином.
Я набирал в грудь воздух — и выдыхал ей в рот. Дышал в нее. Входил в нее дыханьем: ха, ха… ха-а-а… И она раскрывала губешки и вбирала дыханье мое в себя. А потом отдавала мне опять: ха-а-а… ха-а-а… Так грелись мы? Так мы любили.
Чем дольше я дышал над нею, изо рта в рот — тем больше усиливалось чудесное, страшное и светлое.
С каждым выдохом я становился ею. Лидией.
И с каждым принятым от нее выдохом, что моим же вдохом звучал, она становилась Иссой. Мной.
«Не бойся. Не пугайся. Продолжай. Так надо. Не в объятьях дело всегда. Не в мужском отвердении и не в женском черном омуте. Поплавок ловит иную рыбу. Дрожит не на воде, а в небесах. Это опыт иной. Смело иди. Вперед».
Чем жарче, ближе и горячей я дышал в нее, тем быстрее становился ею.
И в один момент все перевернулось.
Я увидел свое лицо над собою. Будто в зеркало гляделся.
И оттуда, сверху, я женским своим лицом, разрумяненным, анисово-белым, освещенным розовой свечой тихой улыбки, глядел на нее, что мгновенно и бесповоротно стала — мной; и мужское мое лицо медленно, тихо плыло подо мной, и оно было — ее, только ее, ее и ничье больше.
Перевертыш. Двойная звезда. Зеркало в зеркале.
«Это Байкал всего лишь отражает звезды. Купает в себе, ледяном, зимнее небо».
Ноги мои пошевелились. Я будто играл на органе. Играла?
«Да, я играю, и я женщина, я стану женщиной лишь сейчас, — тогда, когда я стала мужчиной, и замкнулось кольцо любви».
Ноги нащупали жесткие деревянные выступы. Клавиши, длинные и короткие, ножная клавиатура. Тяжелая, неповоротливая педаль. Вжать. Вмять. Нашарить стопой, носком или пяткой дно. Вот! Я думал, это дно; я думала, это высь.
Тягучий, густой, гулкий звук внезапно взвился внутри, разросся, заполнил собой два соединенных одним дыханьем тела — и распался на тысячи золотых зерен-искр.
Жар дыхания, что крепко сшило нас, усилился и мгновенно выжег на наших лицах, ставших одним лицом, клеймо счастья.
Мы оба закричали. Закричала я! Я закричал!
Крик — это первая музыка мира, и второй не дано.
Ноги и руки, вы ищете игры, вы ищете — обнять, сыграть, обласкать. Ласка — залог рожденья. Ласка — музыка. Мы оба испытали не наслажденье, а счастье рожденья. В любви рождается один человек. Зачатие не только для младенца.
Зачатие — для тех двоих, что корчатся в лодке от радости и страха, и дышат, дышат друг другу в румяные лица.