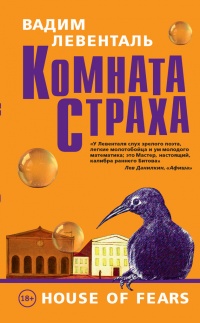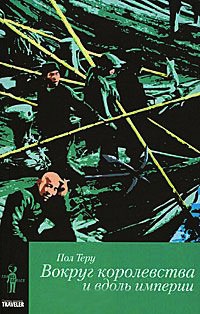Книга Маша Регина - Вадим Левенталь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Разумеется, полуторанедельная поездка была не только работой, но и в большой степени отпуском от дикой берлинской жизни, таймаутом между изнурительным монтажом «Чумы» и свистопляской с переговорами и подписанием контракта на «Голод» — продюсеры будут хвататься за головы, услышав, что фильм опять о русских и о России (пальмовая ветка, понятно, смазала бы им горло, но до нее еще месяц). Медленная (чтобы получше все рассмотреть) и молчаливая (Маша принимала молчание как лекарство и даже запретила Петеру включать музыку) езда с видом слева на море, которое то уползало в сторону, то выпрыгивало из-за поворота, была для Маши чем-то вроде чтения списка кораблей, которое поэт вынужден время от времени предпринимать, чтобы вернуться к себе. Петер предлагал остановиться то там, то тут на день-два, но Маша как будто боялась остановок и, более того, каждый раз торопила его с обедом: эй, не слишком-то, тебе еще голодающего играть.
Маша, возможно, и сама не призналась бы себе в том, что поездка эта была в частности и отдыхом от забот о ребенке, и тем не менее. Даже несмотря на то что мысль об Ане от самолета «туда» до самолета «обратно» непрерывно гудела где-то на периферии ее слуха: Аня осталась в Берлине с отцом.
До сих пор, с начала декабря до весны, Рома брал Аню каждый второй день, чтобы погулять, — Маша согласилась на такой режим не просто потому, что любые споры на эту тему были бы ей отвратительны, но, главное, потому, что ей хотелось, чтобы Аня общалась с отцом: идея неполной семьи не меньшая, в сущности, странность, чем мысль о возможности только правой или только левой половины оркестра. Рома сказал Маше, что снял квартиру неподалеку и живет один — не то чтобы Маша принимала специальное решение мириться с этой ложью, это получилось само собой, будто негласный общественный договор, про который одураченная публика не понимает, ни с какого похмелья умудрилась его заключить, ни как умилостивить чудовище, вызванное в мир его алхимическими формулами: Гоббс, между нами, был человек с воображением школьного учителя физкультуры. Аня не могла еще толком объяснить, где и с кем она была и чем занималась, и Рома, хотя он назвал бы параноиком того, кто указал бы ему на это, пользовался Аниным молчанием: что делали? — в зоопарк ходили, потом заехали ко мне, поиграли, я тут такой коврик купил, — однако Рома неизбежно, хотя бы потому, что ему никогда не пришло бы в голову покупать ребенку какой-то такой коврик, проговаривался (невинно, впрочем, куда как невинно) о том, что за всем его образом действия стоит стратегический женский ум. Ясно, что к тому моменту, когда Аня способна будет сказать, что была у папы с тетей Дашей, — Маше придется смириться с тем, что Аню делят между полной семьей и мамой, а иначе получится как-то даже некрасиво.
И — как общество, однажды обнаружившее себя перед фактом уже заключенного договора, вынуждено мириться с каждым новым притязанием Миноса, — оказалось само собой разумеющимся, что Аня останется с Ромой, пока Маша съездит в Италию — не оставлять же ребенка с няней на полторы недели. Из одной неизбежности вытекала другая, и не было, кроме этой, никакой другой причины, почему Аня должна проводить с Ромой целиком каждые вторые выходные, разве что Регина, тебе же работать надо, вот и поработай спокойно, чего тебе еще, — сама конструкция этой фразы была не столько Ромина, сколько Дашина, впрочем, Маше становилось все труднее отделять инсталлированную в Рому Дашу от самого Ромы, из чего, стоило задуматься, можно было бы сделать вывод, что пора поберечь паруса, но в том-то, если уж на то пошло, и мессидж Ариадны, что другого пути из лабиринта, будь ты хоть трижды герой, нет — Маше действительно позарез нужно было работать.
Даша появилась из-за поворота незадолго до второй поездки в Италию: Маша вырулила на Unter den Linden — не то чтобы она приехала раньше, нет, скорее просто не опоздала — и, сощурившись на сверкающее фостеровское яйцо, увидела, как Рома целует Дашу и Аня машет ей ручкой. В сущности, это была очень трогательная картина: маленькая девочка, а рядом с ней, на корточках, папа машут ладошками сначала немного пятящейся, потом решительно уходящей женщине, — так что когда Рома выпрямился, развернулся (продолжая держать Аню за руку; на губах — счастливейшая из улыбок) и увидел Машу, а Маша невольно держала еще в фокусе Дашу, это было видно, Рома даже не стер с лица улыбки — и что оставалось делать? Только спросить: давно она тут? — и услышать в ответ ложь безобидную настолько, что, во-первых, она даже не стремилась всерьез быть похожей на правду, а во-вторых, взвиться на нее мог бы только человек, не наделенный ни вкусом, ни чувством меры. Маша посадила Аню в кресло, и всю дорогу по Фридрихштрассе, пока она крутила педали, Аня, размахивая ручками, что-то, что не слышно было за шумом в ушах, лопотала. Аня силилась развернуться, чтобы убедиться, что мама ее слышит и понимает, ветер подбрасывал ее невнятного, как у папы, цвета волосы, носик проклевывался из-за щеки, и сильнее всего Маше хотелось прижать, прижать, прижать Аню к себе. Что, милая моя, что? — Пифать надо!
Когда в конце апреля Маша снова отправится в Италию, она уже оставит Аню не просто с Ромой, а с Ромой и Дашей. На этот раз она возьмет с собой не только исполнителя главной роли, но и оператора — они приземлятся в Риме и будут продвигаться все южнее и южнее, пока наконец недалеко от Тропеи Маша не остановит Петера; она выйдет из машины и, пройдя немного в сторону от дороги, сядет прямо на землю: камни, песок, сосновый стланик, дрок, цепляющиеся за камни земляничные деревья — именно этот пейзаж Маша ночами вырисовывала год назад, только оказалось, что тогда она видела его в зеркале: в действительности склон горы будет не слева, а справа, и ступенька ее будет смотреть внутрь кадра, а не вовне; и, разумеется, так будет точнее. Петер сядет несколько минут спустя рядом, отворачивая лицо от колючего песка. Вот, — скажет Маша, — вот это. Теперь ты понимаешь? Петер покивает: бинго, кёнигин, только здесь понятно, что это за человек. Маша поднимется, чтобы показать оператору ракурсы, которые нужно заснять. Четыре ночи они проведут в Тропее, каждый день выезжая на точку и до изнеможения топчась по склону. Оператор (Эрик, молчаливый швед — Маше было важно, чтобы снимал северянин), изведя под сотню пленок, поймет, что то, что ему рассказывали о Региной — даже если она будет точно знать, что тебе жить осталось три часа, она все равно заставит тебя снимать, и еще на полчаса задержит, она не человек, — похоже на правду, но будет уже поздно: Маша успеет по-настоящему заразить его будущим фильмом, и в снимках, которые он в Берлине развесит по стенам студии, проступит вместе и мертвое, и идиллическое пространство будущего «Голода».
Маша увидит эти снимки только по возвращении из Канн. Она быстро пройдет по коридорам, чтобы как можно меньше кивать поздравляющим, закроет дверь в комнату, поставит вращающееся кресло посередине, и Эрику, который в этот момент будет сортировать нерасклеенные фотографии, покажется по ее выражению лица, будто она шла сюда пешком из самой Франции. По мере рассматривания снимков Машино лицо расслабится, пальцы оживут и подберутся, а в глазах загорится упрямый хищный огонь: с этого момента ей станет ясно, что фильм состоится, — Эрик видел то же, что она. И именно поэтому, когда он, спустя почти полчаса, спросит: так как там, в Каннах? все в порядке? — Маша не пошлет его тут же в жопу, а только скажет: они выяснили, что я съела свою мать, трахнула отца и завалила сфинкса, а я так надеялась все это скрыть — по-русски в таких случаях говорят «пичалька», Traurichkeitchen.