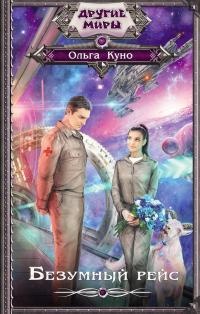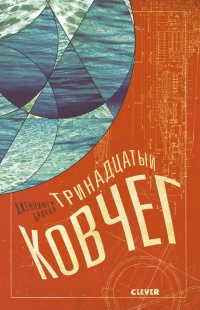Книга Полночные близнецы - Холли Рейс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Проверь, что ты можешь сделать вот с этим.
Я беру его за руку – и мгновенно на меня обрушивается… нет, это не воспоминания мамы, это то, чему были свидетелями инспайры. Папа бегает по комнатам, зовя маму. Папа целует ту версию мамы, что существует во сне, – перед тем как она рассыпается в прах в его руках. Снова и снова папа садится в постели и видит маму умершей – трясет ее, умоляет, прижимается к ее телу. Так это снится папе. Меня обжигает жалостью. Он действительно боготворил ее.
Потом картина меняется. Это уже не сны папы. Мама взбегает по лестнице, входит в мою комнату. Она что-то прикалывает к стенам в коридоре и выглядывает в окна, словно боясь, что кто-то ее преследует. Да, это именно то, что мне нужно. Я кладу свободную руку на стену и, крепко зажмурившись, пытаюсь оттолкнуть все то, что знаю о доме. По сути, я стараюсь обойти собственный мозг. Я направляю инспайров, текущих от руки Олли, себе в грудь, в свое сердце, и в другую сторону, заставляя их пульсировать в потускневших обоях. Весь дом скрипит, трансформируясь в прежнюю версию самого себя, в ту, которой не было видно уже пятнадцать лет.
Когда я открываю глаза, дом изменился. Обои глубокого цвета морской волны, они разрисованы ярко-розовыми колибри. Мы стоим не на ковре, а на дубовом полу. Мебель уставлена разными безделушками. Стены увешаны рисунками и записками.
– Как ты думаешь, мама была накопительницей? – шепчу я.
Что-то в этом месте вызывает ощущение, будто мы вторглись на чужую территорию, и это заставляет меня понизить голос.
– Если и так, у нее был хороший вкус, – отвечает Олли, беря одну из вещиц. – Посмотри.
Он передает мне старинную шкатулку. В ней лежат серебряные ложки, на ручке каждой вырезана крошечная русалка. Я переворачиваю ложки. На обратной стороне вырезаны буквы.
– Что это значит? – бормочу я.
– Понятия не имею, – откликается Олли.
В рисунках и записках, приколотых к стенам, смысла больше. Некоторые из них – карты Аннуна. И Тинтагель там отмечен. Другие места обведены красным, среди них – театр «Глобус».
– Она знала, где Мидраут собирается установить календы, – говорю я, показывая на красные кружочки.
– Да, похоже на то, – соглашается Олли. – Смотри, здесь Альберт-холл, Музей наук, множество университетских зданий. Это все места, которые пробуждают воображение, ведь так?
Мы следуем за приколотыми к стене записками в мою спальню. Странно, что здесь нет кровати и не видно груды моей одежды, красок и рисунков. Большой стол стоит сбоку от окна, а не прямо под окном. На нем красуются чаши и вазы, в каждой из них – орхидея, любимый цветок мамы. Я сдвигаю вазы в сторону, чтобы осмотреть занавеску – ту самую, что украшала комнату тогда, когда родились мы с Олли. Так и есть, один уголок оторван. Я достаю из кармана лоскуток, извлеченный из восковой печати, и прикладываю к занавеске. Подходит.
– Смотри, – говорит Олли и показывает мне палочку красного воска, коробку спичек, несколько ручек и стопку бумаги в одном из ящиков стола.
– Зачем бы ей прятать все в коридоре и при этом оставлять все на виду здесь? – пытаюсь понять я.
– Здесь что-то есть, – говорит Олли. – Я чувствую, только увидеть никак не могу.
– Значит, оно спрятано за чем-то другим, – говорю я. – Проверь стены, а я проверю пол и потолок, хорошо?
Мы методично осматриваем комнату. Олли простукивает стены через равные промежутки, а я ползаю по комнате на коленках, изучая доски пола. Ну же, мама! Ты нам нужна!
– Да! – вскрикивает Олли.
И в то же самое мгновение я восклицаю:
– Ага!
Пока Олли отрывает обои в нужном месте, я пытаюсь поднять не прибитую доску пола.
– Есть что-то? – спрашиваю я.
И, ожидая ответа, продолжаю сражение с доской. Ответа нет, и я оглядываюсь. Олли смотрит в дыру в стене – это потайная полка, куда глубже, чем позволила бы толщина штукатурки. Олли смотрит на меня:
– Пусто. А у тебя?
Я наконец побеждаю доску пола.
– Видишь, я не просто симпатичное личико, – усмехаюсь я.
Олли подходит, и мы смотрим в углубление в полу – там стоят две коробки, обе битком набитые бумагами, исписанными аккуратным, остроконечным маминым почерком.
Обратная дорога в Тинтагель кажется нам бесконечной. Я чрезвычайно остро ощущаю мамины бумаги, лежащие в седельных сумках на боках Лэм, сумки мягко касаются моих лодыжек. Лорд Элленби сияет, когда видит нашу находку, и сам тут же с жадностью перелистывает бумаги, прежде чем вернуть их нам.
Несколько следующих ночей мы систематически изучаем мамины записи, между тренировками. Иногда к нам присоединяются несколько рееви, по приказу лорда Элленби, и еще Феба и Рамеш часто задерживаются допоздна, чтобы помочь Олли, а мы с Самсоном читаем подряд нашу часть, – хотя, вообще-то, мы с братом никого не просили о помощи. Их присутствие раздражает меня так же, как сначала раздражали рееви. Я почему-то уверена, что маме не понравилось бы, что ее записки читают совершенно посторонние люди. Все это – чисто семейное дело. Но внимательность Фебы и энергия Рамеша быстро становятся бесценными для поддержания нашего духа, потому что очень скоро мы понимаем, что мама не говорит здесь о Мидрауте больше, чем уже говорила танам пятнадцать лет назад.
Но от этого ее записки не становятся менее захватывающими.
Здесь много исследований о короле Артуре, и все они куда более подробные, чем те основы, которым нас учили на уроках. Я погружаюсь в истории о легендарных мечах и о том, как Гвиневра[22] и Ланселот действовали вместе, чтобы подавить короля Артура, когда он пытался уничтожить Аннун, точно так же как сейчас пытается Мидраут. Но мама, к сожалению, не смогла узнать достаточно много о том, как конкретно они его свалили. Она просто касается этой темы, рассказывая о поисках святого Грааля.
Самсон находит целую стопку листов с записками о морриганах и задерживается надолго после своей смены, чтобы дочитать их.
– Ваша мама была потрясающе умна, вы ведь это знаете, да? – говорит он, закончив чтение. И показывает нам лист, покрытый диаграммами. – Я не так уж глуп, но я годами изучал то, как можно извлечь пользу из морриганов, а она просто изложила одну из моих лучших теорий в одном-единственном абзаце.
– А что у тебя за теория? – спрашивает Феба, отрываясь от своей стопки листов.