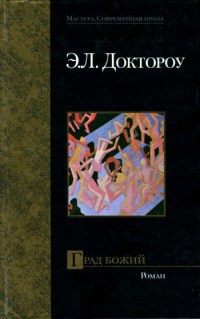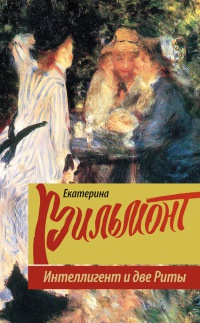Книга Божий мир - Александр Донских
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
То весельцевато говорил Виктор, балагурил, посмеивался над собой, то, вдруг задумавшись и по-лошадиному широко поматывая клочковато заросшей головой, уныло вздыхал: э-хе-хе.
Капитан Пономарёв хотя и не представился и ничего о себе не рассказал, но спросил:
– Что кручинишься, мо́лодец? Жалко шкурки? Барыш, говоришь, ускользнул из рук, как налим? За жабры надо было хватать.
– Тайга наша большая и родящая: попросим у неё, кормилице нашей, – даст ещё. Смилостивится. А кручинюсь-то я вот чего: братка мой, Мишка, из армии, змей, утёк, э-хе-хе. Дезертировал, выходит, дурачок. Судить, поди, будут. Дисбат, точно, схлопочет. Сестрица наша, Людмилка, всполошилась, перетрухнула. Все они, бабы, такие – паникёрши и трусихи. – Чуть задумался, сказал с ласковостью: – Хотя нет, Людмилку нашу не хочу равнять со всеми бабами: она у-ух какая крепущая женщина. Молчунья, а коли уж скажет хотя бы и словечко – стало быть, так оно и есть… А крепущей-то она у нас всегда была, с малолетства, вся в нашу матушку, Прасковью Ивановну, царствие ей небесное… и батюшке нашему, Николаю Семёновичу, царствие небесное, – меленько перекрестился Виктор. – Жили-были они как два голубя и померли в один год: матушка по болезни неизлечимой, а батюшка следом от тоски, думаю, – вот какие были наши родители! Так бы прожить, как они… э-хе-хе! Где нынче такие люди? – Призакрыв глаза, он посидел молча. – Людмилка-то очень молчаливой отчего стала? Как утоп в Говоруше три года назад мужик её, Пашка… под лёд ушёл, когда сено тянули волокушами в посёлок. Волокуша одна на полынье застряла, зараза, вот-вот перевернулась бы. Столько сенища на ней было! Скот недоедал тогда, – спасать надо было. А он первым кинулся да оглоблей норовил приподнять её, волокушу-то. Лёд треснул и-и-и – ушёл мужик. Вот каковский был человек, Пашка-то!.. царствие ему небесное… (Снова перекрестился.) Так вот как утоп Пашка и как взвалилась на Людмилкины плечи обуза из трёх пацанов, племяшей то есть моих, тут уж, милый человек, когда языком молоть, – хлопоты, хлопоты дённо и нощно. Мне-то что, заматерелому холостяку: убрёл на охоту, сам себе фон-барон в своей немерянной та́йге, а она-то с ними одна пластается. Но ничего: не озлобилась на судьбину. Что взгромоздил на неё Бог, то несёт, покряхтывая. Молчунья-то она молчуньей, а повеселиться другой раз не прочь, подковырнуть мастерица ещё та… Ну так вот… о чём я говорил-то вначале? Ага! Значит, скоренько выпроводила она меня со шкурками в райцентр: «Лети, говорит, братка, продай с выгодой. Деньги понадобятся, чтобы адвоката оплатить, да и мало ли где ещё придётся растрястись. Времена нынче такие окаянные: деньгу всюду подавай. Мишку надо выручать». Вот я и – ноги в руки да подул во всю мочь. Э-хе-хе… А Мишка-то наш, знаете, аж трое суток молотил, как сохатый, из-под самого Кидыма, от железки то есть, а туда добрался в угольном товарняке. Только тайгой, на дорогу опасался высовываться, посёлки обходил за версту. Ел что попало. С неделю назад нарисовался у нас дома. Весь оборванный, босиком, худющий выбрел из тайги – просто скелет. «Ты чего, братишка?» – спросил я. «Соскучился по вам, Витя, по Говоруше», – и завы-ы-ыл, завы-ы-ыл… пацан! «Сбежал, что ли?» – «Ага. Не выдержал. Шибко домой тянуло». Дурачина! Э-хе-хе!.. А ведь я, знаете, тоже удирал из армии, да боялся показаться дома: родители у нас строгущие были. В Говоруше всегда про матушку с батюшкой так говорили: правильные-де люди Прасковья Ивановна с Николаем Семёновичем. Вот оно как – правильные!.. Ну, так что: подышу, значит, где недалече нашенскими воздухами, – и сам ворочаюсь в часть. Прощали, хотя на губе я отбухал до зарезу. Тянуло в Говорушу, страсть как тянуло. Понимаете, тоска выворачивала внутрях…
– Выворачивало у вас! – зачем-то – наверное, по неизживной привычке – притворился разгневанным капитан Пономарёв, хотя хотелось просто поговорить с человеком, может быть, успокоить его, подбодрить. – Лень-матушка приласкала, вот и бежите. Трудов да испытаний страшитесь.
Виктор пристально, даже с прижмуркой посмотрел на капитана Пономарёва, почесал у себя за ухом и как-то буднично, совсем без удивления сказал:
– Из части вы. За Мишкой, э-хе-хе.
– За Мишкой, за Мишкой, – зачем-то плотно укутался в плащ-палатку капитан Пономарёв. – Вот вам, браточки-сестрёночки, и «э-хе-хе» будет и о-го-го за одно.
На подлёте к посёлку Говоруше за иллюминатором размашисто явилась великая, на полнеба гора, которую с указующей торжественностью венчала острая скала-палец.
– Стрела Бурхана – тофского бога, – важно, с неумело скрытой гординкой сообщил Виктор капитану Пономарёву. – Однажды он разгневался на людей, что многонько соболя побили, пожадничали то есть, да и запустил в них свою самую большущую стрелу. – Виктор с хитроватой насмешливостью сморщился: – Прома-а-а-а-зал старик – три километра до Говоруши не долетела стрела. Теперь вон, торчит, напоминает – не жадничай-де, человек.
Капитан Пономарёв подумал: «Экий чудной мужичонка: я вот-вот арестую его родственничка, а он похохатывает да любезничает со мной. Вроде как даже обрадовался, что я еду за его братом. Наивная, святая простота или дурак? Или – что-то другое?»
Самолёт, бывалый, облезлый «Ан», залихватской закорючкой обогнул «стрелу» и юркнул в дремучий туман ущелья. Пронеслись по-над самыми кровлями посёлка, едва-едва – показалось капитану Пономарёву – не смахивая печные трубы. Мячиком подскакивали по травянистому, узенькому, как тропка, взлётно-посадочному полю, разбрызгивая лужи.
– Удалые тут у вас летуны, однако, – хмыкнул капитан Пономарёв.
– У нас все хорошие люди, – отозвался Виктор, может быть, не совсем расслышав в гуле моторов слова капитана Пономарёва и потому истолковав их несколько по-своему.
Самолёт, поурчав и чихнув, затих; пассажиры безропотно ступали в лужи и слякоть. Было не по-летнему студёно, промозгло, по ущелью рокотали сквозняки, туманы серой мутной жижей угрожающе покачивались над головами. Две скалистые горы отлого и тяжко уползали горбами к небу, и были столь велики, что на четверть или больше закрывали собою небосвод, – мрачно окрест, дико, неприютно. «Батюшки, ну, глухомань, ну, гнилой угол», – озирался капитан Пономарёв, будто искал что попривлекательнее. У него замёрзли руки и секундами, точно электрическим током, его прошибало ознобом. Он подавлен, он растерян; снова изнутри поднималось раздражённое, недоброе, но обыденное для него, а потому не всегда замечаемое им, чувство. Ему хочется немедленно попасть в привычный обжитой мир, ему хочется в родную ему роту, в выверенные армейские будни, в свой военный городок с маленькой, но уютной квартиркой, где остались жена и сын подросток. Зачем, наконец-то, ему нужно было лететь сюда! Можно было отправить и проштрафившегося взводного или кого-нибудь из прапорщиков. Да и вообще не надо было самому разыскивать беглеца – есть же соответствующие органы!
– Хм! – покривил капитан Пономарёв губы, может, чтобы видели, как он недоволен и раздосадован.
«И что тут человек нашёл для себя доброго? – поёживался он под плащ-палаткой. – Зачем сюда бежал рядовой Салов? Столько-то претерпел и – что? Уж если бежать из Сибири, так куда-нибудь на юга, что ли. Или я чего-то недопонимаю?»