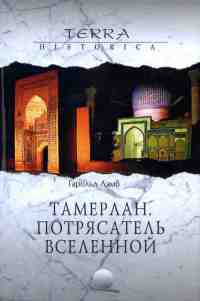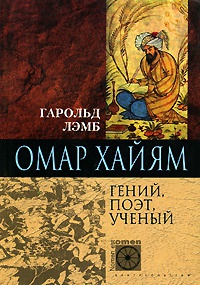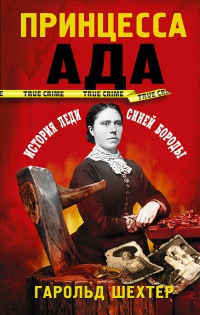Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Замечание Эмерсона о Шекспире по-прежнему верно: «Дух Шекспира есть тот горизонт, за которым мы теперь ничего не видим». На редукционистов, настойчиво напоминающих нам о том, что Шекспир был в первую очередь профессиональным драматургом, находится тонкая Эмерсонова ирония: «Это искусство его магики и волшебства портит нам все иллюзии кулис»[253]. Могу только догадываться, что сказал бы Эмерсон нашим культурным материалистам и «новым истористам», но в «Представителях человечества» уже есть подобающая им отповедь: «Единственный биограф Шекспира сам Шекспир, но даже и он говорить может только тому, что в нас есть шекспировского…»[254] Шекспировское в Мильтоне — это зияющая Сатане глубочайшей глубиной пропасть, его страх быть пожранным чем-то внутри него самого. Как Мильтон произвел этот образ пожирателя?
Трудность этого достижения заключается в том, что Сатана — одновременно Яго и сокрушенный Отелло, одновременно Эдмунд и обезумевший Лир, одновременно восторженный и тоскующий Гамлет, одновременно Макбет, приготовившийся к покушению на короля, и Макбет, запутавшийся в последовавшей далее паутине убийств. Исключив Люцифера и показав нам только Сатану, зрелый Мильтон взял — возможно, сам того не сознавая — от Шекспира больше, чем ему бы хотелось. Люцифер, невзирая на всю свою досаду, не мучился бы сознанием уходящего времени и ревностью — источниками негативного напряжения, определяющего Сатану; после Шекспира ни один великий ревнивец — у Мильтона ли, у Готорна или у Пруста — не может быть совсем нешекспировским. Изображений негативной энергии до Шекспира практически не было. После него она пышет в нигилистах Достоевского так же, как в Сатане из «Потерянного рая», но никогда не достигает масштаба Мильтона — масштаба возвышенного.
Сравним два фрагмента, в которых Яго и Сатана познают ностальгию; оба этих фрагмента — вариации на тему «Пейзаж ночной сей — перл моих творений». Первый — это монолог Яго из третьей сцены третьего акта, прекрасное мечтательное раздумье, начинающееся с уходом Эмилии, которой было поручено добыть платок Дездемоны, и возвышенно прерываемое появлением уже сокрушенного Отелло:
Возвращается Отелло.
Сравним с аналогичным монологом последователя Яго, Сатаны, в Четвертой книге (строки 510–535), когда он, подобно Подглядывающему Тому[255], рассматривает ничего не подозревающих Адама с Евой:
Родился «внутренний человек» из Лютеровой концепции «христианской свободы» в 1520 году или нет — триумф Яго в том, что к середине пьесы он сломил внутреннего человека Отелло; Сатана же смакует свой близкий триумф, злорадно наблюдая последние мгновения внутренней свободы Адама и Евы. Если бы не внутреннее и внешнее благолепие жертв, ликование Яго и Сатаны не достигло бы таких грандиозных и пугающих масштабов. В обоих фрагментах явлено возвышенное нигилистической силы; эстетическая гордость за созданный ночной пейзаж соединена в них с садомазохистской ностальгией по целостному величию, которое в одном случае уже уничтожено, в другом — вот-вот погибнет. Предшественник Сатаны Яго неподдельно наслаждается своим успехом, Сатана же оказывается на грани лицемерного сожаления. Преимущество тут, безусловно, у Яго, так как его труд ближе к труду подлинного эстета. Мы слышим Джона Китса и Уолтера Пейтера, когда Яго напевает:
Слова же Сатаны звучат пародией на институт подневольного брака в мире большой политики:
Этот переход от театрального критика к политику огорчает нас и заставляет понять: нам бы хотелось, чтобы в Сатане было еще больше гениальности и нигилизма Яго. Но что Мильтон мог поделать? В Чосеровом Продавце индульгенций был подлинный духовный нигилизм, но эта черта оставалась «недоразвитой» до тех пор, пока Шекспир не догадался, как ему побить героических злодеев Марло при помощи более «самоуглубленной» формы свирепого аморализма. Социальные и исторические энергии были так же доступны современникам Шекспира, как и создателю «Отелло», «Короля Лира» и «Макбета», но очевидно, что ему также были доступны и более «самоуглубленные» энергии. Шекспир умел использовать и преобразовать написанное Чосером и Марло, но никто, даже Мильтон и Фрейд, не умел воспользоваться Шекспиром (вместо этого сам Шекспир пользовался ими), не умел преобразовать нечто столь обширное и универсальное в нечто целиком и полностью свое.
Западную литературную критику можно возводить к нескольким началам, среди которых — «Поэтика» Аристотеля и нападение на Гомера в «Государстве» Платона. Я лично поддерживаю мнение Бруно Снелля, который в книге «Открытие духа» воздает соответствующие почести яростной атаке Аристофана на Еврипида. Есть мрачная закономерность в том, что эта форма умственной деятельности родилась из умышленного фарса и нынче умирает в виде фарса нечаянного, разыгрываемого роем современных «политических» и «культурных» критиков, которые губят наши образовательные учреждения. Плач по Западному канону будет неполным, если не вспомнить образцового канонического критика, доктора Сэмюэла Джонсона, равного которому не было ни в одной стране ни до него, ни после.