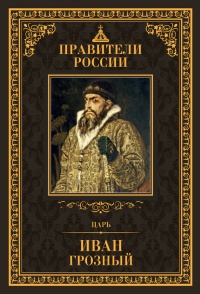Книга Тайный год - Михаил Гиголашвили
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Глебова Засекина, Андрея
Мусырского, Бориса Лаптева,
Роусина Перфурова, Дениса,
Меньшика Кондовуровых,
Андрея Воронова, Постника,
Третяка, Матфея, Соурянина
Ивановых, Григоря Паюсовых,
Постника Сысоева, владыки
Тверского подключника Богдана
Иванова, Фёдора Марьина,
Тоутыша Палицына, Михаила
Бровцына, Григория Цыплетева,
Рудакова брата Пятого
Перфирьева, Меншово, Андрея
Оникиевых.
…За окнами постукивает ледяной дождичек.
Он – один, мал, беспомощен – разбужен неясным шумом, вылез из постелей. Идёт через палаты, минует одну, другую, а свет из-под новых дверей всё ярче, всё мощней. Вот, распахнув последнюю дверь, видит: по огромному залу шандалы с горящими свечами расставлены, посреди стол с гнутыми львиными лапами, на столе – гробина. В ней – мёртвый батюшка Василий, руки на груди сложены, редкие власы назад зачёсаны, а во лбу вместо венчика – гвоздь золотой вбит! А руки у батюшки волосасты и когтисты! А по мёртвому лицу слизни ползают!
В ужасе кинулся бежать назад. Мечется туда и сюда, как рыба в садке, а выхода нет. И окна в палатах замурованы, только одно, чистое, блестит разноликой слюдой. Туда!
Кое-как, разбив ногой окно, выглянул. Вот откуда шум! Да это он в Кремле! На стенах стрельцы с палашами торчат, знаки факелами подают. Люди под стенами снуют, нарядный люд ходит – то ли праздник, то ли ярмарка. Всё лотками уставлено, а на них чего только нет! Петушки сладкие, кренделя, калачи… Крики:
– Ай да пироги, только зубы береги! С сахарным примесом, в полпуда весом!
– Блины, блины! Сочны, молочны, крупитчаты, рассыпчаты!
Дальше – заячьи шкурки, железная рухлядь – скобы, подковы, скребки, уздечки. На прилавках – щепетильный товар: иголки, булавки, заколы, пугвы, тесьма, лента, «кому мыльце – умыть рыльце?». Где-то ходи узкоглазые сидят, снадобьями торгуют, длинные косы оглаживая. Квасники разносят своё:
– Вот квас – в самый раз! Пробки рвёт, дым идёт – запыпыривай!
Рыбники из ряда кричат, что сёмги пуд – сорок копеек тут! Селёдками за хвосты в воздухе потряхивают:
– Бери – не хочу, на полушку проглочу! Сам ловил, сам солил!
А прямо под окном – лоток с кусками тёмного мяса. Два продавца крутятся, что-то на колоде рубят: один топором машет, другой помогает, держа лошадиную ногу за копыто и говоря:
– Ты его, Нилушка, лучше на три кусмана руби!
«Что? Нилушка? Тать! Поймать!»
Выпрыгнул из окна, метнулся к лотку, где имя ненавистное прозвучало. Но лоток вдруг пропал. Он спешит по рядам – найти не может!
И, как назло, стая собак за ним увязалась. Он бежит – и собаки бегут, лают, за ноги цапнуть норовят, только уворачивайся! Вот уже из рядов выбежал, а собаки не отстают. О Господи! И всё новые подбегают, в стаю внедряясь! Откуда они? Из псарни вырвались? Пожар где? Урчат, скулят, визжат и подпрыгивают, то ли куснуть, то ли лизнуть норовя. А те псы, что сзади безгласно струятся, – самые опасные: пасть от лая свободной держат, чтоб вцепиться наверняка!
Да нет, это не собаки, это татарчата! Татарчата! Целая стайка – полуголы, скуласты, щекасты… Бегут, хватают за руки, за рубаху, кричат:
– Кетмень дай! Бушлат дай! Ялла! Тенге дай! – цапают за локти цепкими коготками.
Он кричит в ответ:
– Тенге йохтур! Йок!
А они ему:
– Харам! Секим-башка!
А он им:
– Гяльбура, янычарь!
Вот вбежал к себе в горницу – а они за ним: стали хватать всё со столов, за пазухи ныкать, переворачивать скамьи и поставцы. С него рубаху сорвали, норовят и портки стянуть. До икон добрались, стали сошвыривать их с бранью со стен, топча их и ругаясь, отчего он попятился и рухнул навзничь…
…Очнулся в лихорадке. Сел. Прислушался, пот с голого черепа периной утирая, в бороде копаясь и оглядываясь по келье.
Не к добру проклятые татарчата приснились! С этими змеёнышами в детстве много чего было – их свора с татарских посадов каждый божий день шла на московские торжки воровать и гадить: разом навалятся, похватают – и сразу исчезнут! Резвые на ноги, легко убегали от охраны, на ходу переворачивая лотки под ноги стрельцам.
Татарчат боялся, как и чёрных котов, и баб на сносях – когда стал царём, велел всех чёрных котов на Москве извести, а чреватым бабам запретил появляться на людях – если таковую застигнет стража в людном месте, то плати «брюхатую подать» – рубль.
Но пуще всего, до страха в пятках, опасался зеркал – ведь их подсунул людям сатана, чтобы сводить с ума! Человек двоится, говорит сам с собой, а кому не известно, что болтовня расщепляет человека, ввергает в сомнения, ложь, соблазны, в то время как одиночество собирает душу воедино, крепит и пестует её! Посему не приведи Господь принести в дом зеркало от покойника или купить древние, из неизвестных мест зеркала: тут же вывалятся на тебя из них все невзгоды, беды, горя, муки прошедших времён и людей!
Вот привезла бабушка Софьюшка в своём свадебном караване два венецийских зеркала – и что? Повесили их в большом зале, все дивились, ахали и охали, а потом одно зеркало ни с того ни с сего лопнуло, да так обсыпало осколками нидерландского посла, что до сих пор, бедолага, в шрамах ходит. А другое зеркало во время грозы сорвалось с крюка и убило казачка, стиравшего с него пыль…
Тихо. Серый предутренний свет тоску нагоняет. Редкие капли о крышу крыльца уныло шлёпаются, словно от жизни куски отсекают.
Когда светит солнце – на душе тепло и светло, а при студёной тьме душа черствеет, из тела вываливается, сбежать норовя туда, где потеплее и посветлее. Вот Афонька Никитин баял, что в Индии люди верят, будто душа после смерти из тела не уходит восвояси, а в других существах возрождается, в тигре или кабане, даже в камень войти может или в коряге угнездиться. Кто как при жизни жил – тем и награждён, не обессудь… Это индусцам их пророк Будда, от отца Шуддходаны и матери Майи рождён, открыл и велел безгрешной жизнью жить, не то душа не один раз, а тысячи жизней мучиться и колготиться будет, в червей, мокриц или вшу помойную переходя и там телепаясь… И каждый раз всё хуже, всё ниже, и не будет им вовек покоя…
Это как же понимать? Разве каждый человек – не хозяин своей душе? Разве не пестует, не холит, не растит её, Богом выданную? А зачем чужую, готовую, потёртую да искромсанную получать? А вдруг эта другая душа с чужого плеча черна от грехов? Гнусной гнилостной мерзостью заляпана? И её на себя – нового, чистого, умытого – пялить?