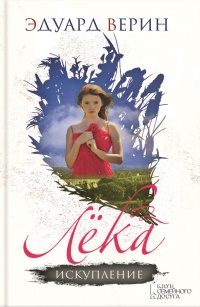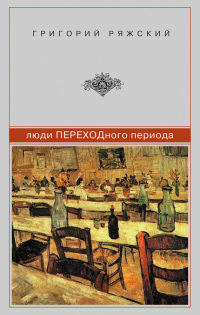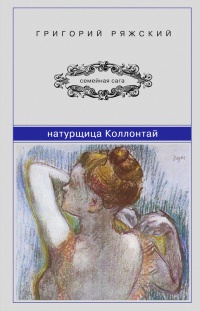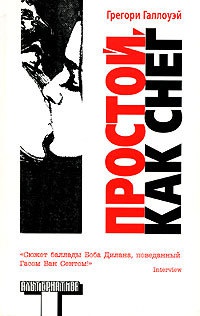Книга Подмены - Григорий Ряжский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Оставалось надеяться на чудо. На следующее утро начиная с пяти утра профессор Дворкин уже дежурил у входа в мусорную камеру, чтобы не проглядеть начало выемки. И он дождался. Всё то время, пока дворничиха выгребала мусор из нижней камеры мусоропровода, он стоял рядом, отсматривая каждую, уже успевшую невыносимо провонять подробность от мусорной мелочёвки. Обнаружилось практически всё из наследия Ицхака Мироновича и Деворы Ефимовны – всё, что его старательный сын накануне вечером спустил в мусоропроводную трубу. За исключением позавчерашнего выноса. Чуда не случилось – предыдущий мусор увезли на городскую свалку днём раньше. Папка, крест-накрест перехваченная красной тесьмой, с драгоценными нотами Ференца Листа была утрачена бездарно и безвозвратно. И это тоже была реальность.
Он не стал никому ничего говорить, уже было незачем. Он просто сжёг это в себе, стряхнув тупую боль, распустившуюся возле самого сердца, в топку, помещённую чуть дальше от него, справа от сердечной мышцы. В этом месте обычно болело не так, но случалось, что и сильно жгло. И потому для разового истребления больной памяти топка подходила лучше.
Вечером он завёл Лёку в кабинет, сунул ему в руки рукопись Ицхака Рубинштейна и сказал:
– Лев, пока не прочитаешь до конца, пожалуйста, не выходи из кабинета. Я сейчас уйду. И я очень тебя прошу. Увидимся утром. – И вышел.
Утром Лёка пришёл к нему сам, Дворкин ещё не вставал. Веры рядом не было, уже унеслась торговать и наваривать. Сам же лежал с открытыми глазами, медленно приходя в себя после затяжного мутного сна, и смотрел в потолок, дожидаясь момента, когда изображение обретёт начальную резкость, после чего уже организм, как обычно, прогорнит ему подъём. Сын просунул голову в родительскую спальню и, обнаружив, что замечен отцом, призывно указал глазами на кабинетную полукомнату:
– Я у тебя. – И исчез.
Моисей Наумович понял. Накинув халат, зашёл в кабинет следом за сыном.
– Я просто потрясён, – с ходу начал Лёка, в несвойственной для него манере прижав руки к груди. – Папа, мы же ведь негодяи, мы просто самые обыкновенные ничтожества. Как же мы могли столько времени жить рядом и совершенно не замечать этих потрясающих людей?
Моисей Наумович чуть подумал и произнёс:
– Скажи, Лёва, а тебя не смущает, что они убийцы? Оба. И сам, и Девора Ефимовна.
– Да ни на одну секундочку! – с горячностью воскликнул Лёка. – Даже не думай, папочка, даже не смей о них такое говорить! Они же оба святые, просто натурально святые люди. Мы же против них никто, все мы, понимаешь, просто никто и никак: какие-то жалкие насекомые со своими мелкими заботами, не стоящими даже их мизинца!
– Теперь ты, надеюсь, понимаешь, о каких нотах речь? – Дворкин прикрыл глаза и одновременно покачал головой. – Чувствуешь, чего мы все лишились? Какого наследия… Чьего… В силу собственной же недоразвитости, в угоду этому сволочному себялюбию, этому нашему проклятому эгоизму, неумению разговаривать друг с другом, ценить, видеть дорогого, нужного человека в каждом из нас. Да и вообще… в любом человеке. Отсюда фанаберия эта и произрастает, от скудости душевной, от лености ума, от нежелания совершить даже полшага там, где хорошо бы сделать шаг.
– Ты их вещи забрал, да, пап? – внезапно спросил Лёка. – Нарочки, Эзры и Гиршика?
Дворкин кивнул.
– И куда их теперь?
– Отнесу в храм, оставлю для бедных. Больше ни на что рука не подымется, – признался Моисей Наумович. – Завтра же и отнесу.
– Нет, пап, давай я сам. Мы с Катей отнесём. Я хоть что-то должен для них сделать.
«А может, и правда не всё ещё потеряно, – неожиданно для себя подумал Дворкин. – Быть может, зря я списал Лёку, – глядишь, ещё и подружимся. По-настоящему, по-мужски, доверительно, коль скоро не получилось когда-то сблизиться как отцу с ребёнком».
И неожиданно спросил:
– Иными словами, ты хочешь сказать, что смог бы убить того, кто лишил жизни твоё дитя? – Вопрос вырвался спонтанно, не подчинившись контролю головы, но коль уж так вышло, то он ждал на него ответа.
– Да о чём ты говоришь, папа! – неподдельно изумился Лёка и в негодовании замотал головой. – Разумеется, убил бы! Тысячу раз бы убил и ни о чём не пожалел! Просто взял бы револьвер, как Рубинштейны, выследил мерзавца и всадил бы всю обойму, прям в башку его подлую!
– А как же «Не убий»? – вопрос был простой, и Моисей Наумович хотел иметь такой же внятный ответ.
– Как? Да легко! Понимаешь, пап, заповеди Христовы – это ведь не догма для внешнего подражания, это скорее совет любящего тебя Бога. Первоначально это звучало, как «Не убий без крайней необходимости», и лишь потом сократилось до «Не убий», ты в курсе?
Нет, Моисей Дворкин не был в курсе, как не пребывал в курсе и относительно того, что сын его, судя по всему, читал всё же Ветхий и Новый Завет. Он не просто упустил сына, он его, кажется, безвозвратно потерял, раз подобные вещи обнаруживались в ходе случайного, по сути, разговора.
– Видишь ли, – продолжил Лёка, – я считаю, что у всех заповедей обязан быть единый принцип – действия человека должны быть адекватны жизненной ситуации. Сколько люди живут, столько же они эту главную заповедь и нарушают, око – за око. И только те люди, у которых не убивали детей, как это сделали с нашими Рубинштейнами, могут говорить, что месть низка и мелка по самой сути своей, что, кто мстит, тот же потом и сожалеет об этом, а кто прощает, никогда не пожалеет, что простил. Не верю, я, папа, не ве-рю! Ну как это можно, скажи?! Убили твоего ребёнка, а ты простил? Лично я после этого жить бы не смог, и поэтому я хорошо понимаю этих бедных стариков, как и совершенно чётко осознаю, во имя чего они пожертвовали половиной собственной жизни! – Лёка сел на диван и, привернув громкость, закончил на грустной ноте. – А с Листом просто кошмар, пап, ты абсолютно прав. И к тому же, кто бы мог подумать, что они завещают Гарьке такую драгоценность. И что все мы вместе, идиоты несчастные, так бездарно её просрём.
Это была суббота. На другой день ближе к завершению заутрени Лёка с Катей отнесли детские вещи семьи Рубинштейнов в храм Преподобного Пимена, что на Селезнёвской улице. Зайдя внутрь, оставили имущество на скамеечке, примостившейся в левом храмовом приделе неподалёку от амвона, – чтобы непременно тот, кому нужно, заметил и подобрал.
Моисей же Наумович, разыскав через городскую траурную службу место захоронения Ицхака Мироновича и Деворы Ефимовны, отнёс им жёлтые махровые астры, рассчитывая, что эти цветы хотя бы малость скрасят покойным унылое лежание в месте их последнего и довольно неприглядного пристанища. Он положил букет на могилу, вернее, на скупо отведённое под неё обезличенное место, состоящее из просевшего грунтового холмика и покосившегося железного прутка с металлической табличкой, вколотого в глинистую землю у предполагаемого изголовья. Через ржавые подтёки на табличке с трудом можно было разобрать: «Рубинштейнов И. М. – Рубинштейнова Д. Е.». Моисей криво усмехнулся: это было гадко, подло и несправедливо – всё это.