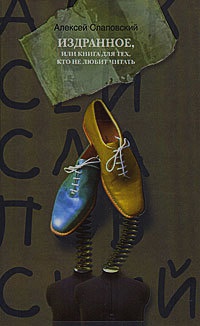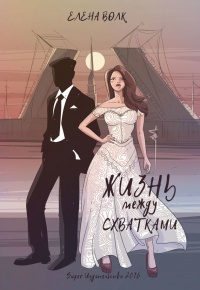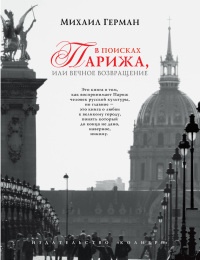Книга Всех ожидает одна ночь - Михаил Шишкин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Водка оживила всех, говорили уже в полный голос, а громче всех кричал Барадулин. Он был пьян с самого начала и уже облил вином свой черный фрак.
— Вы только подумайте, — кричал он на всю комнату, — заболеть холерой, мучиться в корчах и выжить, выздороветь! Ему бы жить после такого до ста лет! А вот лежит теперь наш Георгий Иванович в могилке, а мы тут пьем за него, вот ведь как!
Я ничего не ел, даже не снимал салфетки со своего прибора. Было жарко, шумно. Уже стали чокаться, забывшись. Барадулин громко рассказывал про то, как он застал Кострицкого в петле.
— У меня и в мыслях ничего такого не было! Я-то деньжонок пришел занять. Мне и нужно-то было рублей сто. Кричу — никого. Иду прямо к нему. Знаю, что он, шельма, дрыхнет после обеда. Дергаю дверь за ручку, не открывается. Что такое? Смотрю, а там, сверху, пряжка от ремня торчит. Дернул посильнее, что-то на пол рухнуло. Открываю дверь, а это он лежит, вот здесь вот, вот здесь! — Барадулин побежал к двери показать, где лежал Кострицкий. — Лежит синий весь, и язык чуть ли не до уха!
В запале кто-то выпил рюмку, оставленную для покойного на чистой тарелке.
Я встал из-за стола и направился к дверям.
В сенях в полумраке я увидел Анну Васильевну. Она стояла у вешалки и тихо, беззвучно плакала, уткнувшись в шинель покойного мужа. Я должен был взять свой плащ и кашлянул. Она вздрогнула, обернулась.
— Это вы? — устало сказала она. — Уже уходите?
Я молча кивнул.
— Ну вот, куда я теперь с детьми? Как жить? На что? Не знаю.
Анна Васильевна снова заплакала и положила голову мне на грудь. Я гладил ее по плечу.
Когда я вышел на крыльцо, дождь все еще накрапывал, и в лужах мокли разбросанные по двору ветки можжевельника.
Степан Иванович на службе больше не появлялся. Я знал, что наряжена была комиссия из трех разных служб во главе со старшим военным медиком Корниловым, известным в Казани тем, что у него на руках скончался Багратион. Комиссия после освидетельствования нашла необходимость в лечении Степана Ивановича на морских и минеральных водах, ибо обструкция его и сухой кашель могли привести в совершенное расстройство его здоровье. Нашли целесообразным курс лечения на ревельских морских водах. Свидетельство это с просьбой на высочайшее имя с рапортом Ситникова и рапортами двух генералов, Паренсова и казанского коменданта, были отправлены в Петербург.
Степан Иванович прислал мне записку, в которой сообщил, что Илья Ильич уверял его: самое позднее в конце июня он получит отпуск по лечению и сможет выехать из Казани. Степан Иванович звал меня ехать с ним.
Было уже начало июня.
Екатерина Алексеевна обвенчалась с Ореховым без приглашений и торжеств, тихо, в какой-то маленькой церкви на краю Казани, и чуть ли не в тот же день они уехали в Москву.
Узнав, что Солнцевы собираются в деревню, я зашел к ним проститься.
В тот день на Казань налетел ветер, силы не ураганной, но взметавший всю казанскую пыль и тучей гонявший ее по улицам. Пока я дошел до прокурорского особняка, меня в пору было выбивать, настолько пропылилась моя одежда.
Помню, что в тот день, войдя в гостиную, я вдруг вспомнил, в каком воодушевлении я приехал почти два года назад в Казань и вошел тогда в первый раз в эту комнату, где в простенках овальные зеркала отражали потрескавшиеся изразцовые печи, сосновый пол, выкрашенный под паркет, потертую мебель красного дерева с гнутыми ножками, стены с обоями, на которых были изображены какие-то красные птицы и золотые лиры.
Я просидел у Солнцевых долго, до самого вечера, играя с детьми. Я хотел уйти уже, но меня оставили пить чай.
Вместе с Гавриилом Ильичом к столу вышел немолодой, невысокого роста невзрачный человек, начинавший седеть, с глубокими морщинами вокруг губ, аккуратно одетый, с выцветшими спокойными глазами, с движениями неторопливыми и уверенными. Он был немного простужен и оттого говорил в нос, то и дело промокая ноздри платком. Татьяна Николаевна вместо чая налила ему горячего молока. Фамилия его была Маслов. Из разговоров я понял, что он неделю как из Петербурга.
Тогда только что пришло в Казань известие о кровопролитном сражении при Остроленке, и за столом говорили о том, что это первое серьезное поражение поляков, что все наконец становится на свои места и что дальше осени эта кампания не затянется.
Я старался отмалчиваться, но Маслов, после того как нас представили, стал вдруг проявлять ко мне какой-то повышенный интерес и после всякой своей фразы с любопытством смотрел на меня и все время спрашивал:
— А вы как считаете, Александр Львович?
Это сразу насторожило меня.
После чая Солнцев пригласил нас к себе в кабинет выкурить по трубке. Мы расселись в глубоких креслах. Человек Солнцева принес богатые пенковые с витым чубуком трубки. Клубы табачного дыма заполнили комнату.
Очень скоро Солнцев, извинившись срочными делами, вышел, оставив нас вдвоем, я тоже встал, чтобы откланяться, но тут Маслов сказал:
— Подождите немного, Александр Львович! Произошла такая удивительная встреча, а вы куда-то убегаете.
— Что ж в ней удивительного? — спросил я с каким-то неприятным предчувствием.
— Сядьте, прошу вас! Кажется, сама судьба столкнула нас с вами.
Я снова сел. Маслов смотрел на меня долго своими бесцветными неживыми глазами и ничего не говорил. От этого взгляда мне стало не по себе.
— Что вам от меня нужно?
— Я имею кое-что сказать вам и думаю, что это будет для вас небезынтересно.
— Ну же. — Меня раздражало, что он мучил меня недомолвками.
— Известно ли вам, Александр Львович, где я служу? — спросил Маслов.
— Мне это безразлично.
— Что ж, я отрекомендуюсь: полковник Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, начальник пятого жандармского округа.
Он остановился, глядя на произведенное впечатление.
— Вы удивлены?
— Отчего же мне быть удивленным? — ответил я как можно непринужденнее. — Мало ли кто где служит.
— Славно! Тогда вам, должно быть, тем более безразлично, зачем я приехал в Казань?
— Вы правы.
Маслов помолчал, выбивая пальцами дробь по ручке кресла, потом встал и принялся ходить по комнате, заложив руки за спину.
— Мне нравится, как вы ведете себя, Александр Львович, — сказал он.
— Не понимаю, о чем вы говорите.
— Сейчас поймете. Но сперва я хотел бы просто поговорить с вами. Вы мне интересны. Я хочу понять вас.
Он пожевал губы, покачался с носков на пятки, с пяток на носки и снова принялся ходить за моей спиной.
— Вы знаете, когда я был совсем еще юношей… Надеюсь, вы простите мне небольшое отступление? Так вот, когда сверстники мои начинали уже бегать за комнатными девушками, я, представьте себе, лишь читал книги и писал российскую конституцию. Да-да, конституцию. Мне казалось, что жизнь наша такая гнусная оттого, что нет хороших законов. И вот я сидел и сочинял законы один лучше другого. Все в этих моих проектах было построено на добре и справедливости. И вот дед мой как-то увидел эти листки и сжег их. Он очень испугался. Не за себя, конечно, за меня. Был, разумеется, скандал, слезы. Я презирал его. А он сказал мне слова, которые я тогда по молодости лет не понял. Он сказал очень просто, что России нужны не законы, а люди.