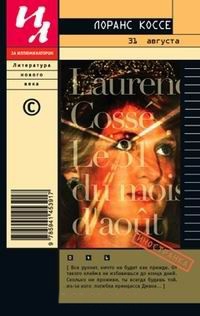Книга По дороге к концу - Герард Реве
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну ладно, мне кажется, пойдет, можно разливать, не думаю, что с ней что-то могло случиться.
А. принес мне еще стакан, он был даже настолько добр, что добавил кусочек льда. Я встал и поднял бокал, чтобы произнести тост.
— За смерть.
А теперь хорошо бы всем уйти, кроме, разумеется, Тигры, ну, и А. с Плюмом могут остаться, если захотят, конечно. Тут кстати оказалось, что обе дамы, собачий мальчик и химик хотят поехать на часок «погулять в город», в Le Fiacrd или The Blue Note[246]ради Бога, но меня и не уговаривайте: пить надо дома, и только действительно в экстренных случаях — например, как днем в Гааге — в кафе, а приличные люди по ночным кабакам или клубам не шатаются. Но иногда ради сохранения мира и порядка человеку приходится видоизменять или скрывать правду, так что мне пришлось отделаться рассказами о сильной усталости, о том, что я много работал в последние дни, ну, такого рода спасительные извинения, пока они вчетвером не уехали, впрочем, довольно быстро и без всяких упреков.
Мы с Тигрой, А. и Плюм еще некоторое время разговаривали о том, как все это печально — кто б сомневался? — а потом и эти двое ушли домой.
— Наверняка много выжрали? — спросил я Тигру.
— Да, довольно-таки, хотя да, как обычно, — гласил его приговор. Сам он, ласточка моя, совсем ничего не пил и следил за тем, чтобы все было в порядке.
— Много побили?
— Нет, совсем ничего.
— Нажгли еще дырок в ковре или на столе?
— Нет-нет, все цело.
— Но вот эту так называемую «водку» мы зря купили, — решил я. — Ну, ладно, в жизни и не такое случается. В наше время за все надо платить.
Праздник мертвых закончился и вылился в копеечку: с трудом окинув взглядом звенящую батарею бутылок и присоединив к сумме посиделки в кафе в Гааге, я прикинул, что все вместе стоило примерно гульденов пятьдесят («пол-гектолитра!»), многовато, но не сверхъестественно, честное слово, ведь не каждый день бывает кремация, а деньги за билеты на поезд нам вернули, это я ловко провернул, к тому же в доме ничего не разбили. Томми на веки вечные обратился в пепел, его волосы, и его ушки, и его изящная попка, все, по крайней мере, если его действительно сразу по окончании «церемонии» предали огню, в чем я сомневаюсь, потому что я ни на грош не доверяю этой фабрике с ее пластиковыми дверьми гармошкой; я не удивился бы, если б оказалось, что они собирают гробы, чтобы затопить печку раз в неделю, ведь это должно быть дешевле, чем несколько раз по отдельности — как я уже говорил, в наше время за все нужно платить, бесплатно только птички поют. Но если его все же засунули в печку вместе с гробом из щепы (внешний, украшенный гроб отправился обратно на склад), то он превратился теперь в пепел, так же как и Самми или Салли Кооперберг, который вкупе с его картинами и полоской спичечного коробка, «жизненно» изображенной на полотне из щепы, навечно обратился в пепел. Шанс как-нибудь заполучить Томми в постель был в любом случае упущен навсегда, рассеялся в дым, слово говорит само за себя.
Пока Тигра приводил наше место ночлега в боевую готовность, я, находясь уже в прострации, ясно увидел ограничения существования детей человеческих, а образ Томми слился теперь с темно-русым Мальчиком, которого я повстречал месяцев шесть-семь назад; мальчик лет 16 или 17, почти наверняка немец, загорал на безветренной стороне насыпи у Молкверума, на нем были серебристые плавки, я смотрел на него, пока у меня горло не пересохло от желания. Я никогда не узнаю, как его звали, кто он был, где живет и чем занимался, потому что он, пробыв здесь на каникулах 12 или 15 дней, вместе со своими родителями-толстяками уехал обратно в Гамбург, или Бремен, или Олденбург, где он, в противоположность Томми, был все еще здоров и полон сил и, например, как обычно ходил в школу, даже не подозревая о том, какой он на самом деле красивый мальчик, найти его теперь невозможно; и все же, в той же прострации глядя перед собой, я представлял, что смогу увидеть его в самый последний раз: он захлебнется, и вскоре после этого волны вынесут его тело на берег, и мертвенно тихим полуднем я найду его на опустевшем пляже, стяну с него серебристые плавочки и войду с ним в продолжительное совокупление. Мужчина, Женщина или Мертвец — нет превосходства одного над другим, ибо одно было у них дыхание.[247]Мы пошли спать потому что завтра хотели уехать обратно во Фрисландию вовремя, а нужно было еще совершить массу покупок и упаковать вещи.
На следующий день после обеда, незадолго до нашего отъезда, А. зашел к нам по дороге домой с работы, чтобы узнать, как мы пережили вчерашние события, мы с ним допили давешнюю бутылку водки, которая, несмотря на то, что простояла всю ночь в холодильнике, все так же не имела вкуса.
— Знаешь, я все-таки решил бросить пить, — сообщил я ему. — Так что все равно, что именно пить и сколько. Давай-ка прикончим эту отраву.
А. помог отнести багаж вниз, и я, не стыдясь, вышел наружу с полным бокалом; стоя возле автомобиля и отхлебывая из стакана, я завязал с ним непринужденную беседу.
— То, что мне пора бросать пить, пора отвадить кувшин по воду ходить, это точно, — заверил я его. — Хотя и не все в жизни поддается организации и упорядочиванию, потому что неизвестно, где окажешься, если только этим и будешь заниматься. Ё-мое.
Вещи были, в основном, уже загружены в багажник, для большего удобства я уселся в машину, опустошил свой стакан и сунул его в карман.
— А если современники не в состоянии во всем разобраться, — сказал я, продолжая излагать свои умозаключения через открытую дверцу, — то как сможет потомство сложить это воедино? Я уже давно ломаю над этим голову.
Тут Тигра тоже спустился вниз, запер входную дверь, сел в машину, я торжественно благословил А., и мы уехали.
Вообще-то на этом история о смерти Томми должна была закончиться, но где-то неделю спустя я получил письмо от его матери: она спрашивала, есть ли у меня какие-либо соображения по поводу того, почему он это сделал и что там именно произошло, самоубийство или случайность, могло ли это быть делом чьих-то рук; на что я, послушавшись собственной совести и разума, написал ей, что думаю о существовании человеческом, как я все это себе представляю, о Боге и тому подобных вещах, и то, что я писал, было чистейшей правдой, я ничего не выдумывал, не сочинял, может, только придал письму несколько торжественный тон, но ни лжи, ни приукрашиваний в нем не было, я также ничего не умалчивал, только опустил пассаж о насыпи у Молкверума. Вскоре после этого она зашла ко мне домой, в Амстердаме, чтобы лично доставить ответ на мое письмо и поблагодарить, и принесла с собой упакованную в солому бутылку шампанского, одну из двух бутылок, которую хранила для Томми, если он зайдет на Новый год, до тех пор, пока не услышала, «что больше никогда его не увидит». И опять то же самое: они ведь не учат, что нужно говорить или делать в такой ситуации. Шампанское можно, конечно, просто выпить, так я и сделал, бум-с, в воскресенье после обеда вместе с Тигрой, кандидатом в католики А. и Плюмом. После того, как я снял с горлышка проволочную сетку, которая почему-то всегда навевает мне причудливые, порнографические фантазии, мы сидели все вместе и ждали хлопка, а потом я произнес свой обычный тост: «За смерть». Бутылка стояла в холодильнике, и только тогда, когда мы ее почти выпили, я прочитал на этикетке, что подавать это вино нужно было при температуре 10,5 градусов Цельсия; жаль, конечно, но поздно спохватились. Мы продолжили хересом, потому что он хорошо подходил по вкусу, как нам казалось; в дальнейшем в тот день ничего особенного не происходило. Как и в гостях у Булли ван дер К. в П., я тогда сидел и думал о Томми и его портфолио, и о каждом из названий, что я придумывал тогда его рисункам, осталось ли это «массовочкой», ведь все названия перепутались, хотя да, с продажей рисунков можно уже не спешить. Для Булли, естественно, как раз продажа оставалась важным вопросом, в котором не было и не будет особенных изменений, по меньшей мере до тех пор, пока он продолжает нагло и с дразнящей бесцеремонностью врываться в кабинеты директоров художественных галерей, чтобы уронить — и не случайно, а намеренно — свое «портфолио» на ноги директору, что не увеличивает шансы на продажу его и без того не ходовых работ, размером часто не больше почтовой марки, посвященной олимпийским играм, и обладающих к тому же вызывающими названиями вроде «Портрет Пера Моей Утки».