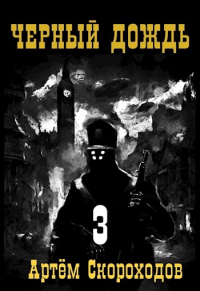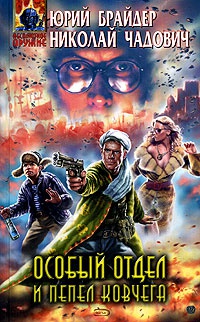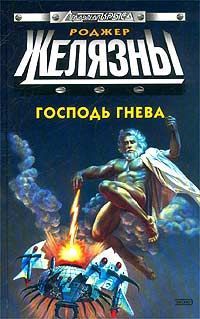Книга Дитя Ковчега - Лиз Дженсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Мне пришлось ей заплатить, – настаивал Пастор Фелпс. – Иначе бы она сказал ему, кто его отец.
– «Отче наш, сущий на небесах!..»[109]– загудел светловолосый священник, сплетенными пальцами проделывая что-то сложное и бесполезное.
Пастор Фелпс хрипло спросил:
– Я скверно поступил?
– Твое Царство грядет, Изамбард, – сказал бородатый. – Твое, Изамбард, там-та-рат.
– Господь простит. Вы – заблудшая в страданиях овца.
– Бее-ее, – заблеяли хором блондин и бородач, распутывая Клифтонский висячий мост.
Чарлз Дарвин за многое в ответе.
А сейчас в одиночестве Пастор Фелпс поправляет спицы и клубок шерсти и начинает новый ряд, но после трех петель останавливается. Он ничего не видит из-за слез. Он долго, судорожно шмыгает носом и вытирает глаза клубком кроваво-красной шерсти. Выхватывает мятое письмо и поднимается со стула. Вязание падает на пол. Клубок катится через всю комнату, разделяя пол тонкой линией красного. Некоторое время Фелпс стоит, застыв. Потом осторожно переступает линию и подходит к темному окну.
Внизу – океан. Огромный. Хаотичный. Иссиня-черный. Пастор представляет хлещущий дождь и покачивающийся Ковчег. Игрушку из древесины и пеньки.
Сжимая мятое письмо Мороженой Женщины в руке, он смотрит в пустоту и в тьму над бездною.
Затем, как тока мы дастигаем берегоф МАРОКА, я заваливаю.
Очинь сильна. С жарам.
Кавчех катица и катица па волнам, а я думаю: я ва сне. Мне была так ПЛОХА и у меня был такой Жар, што я не помню, када Кавчех останавился и паявился ДЖЭНТЕЛЬМЕН. Проста праснулась аднажды утрам, или днем, или када там, и пачуяла запах порта; все ещо темно, но он ужэ здесь. Я касаюсь ево и КРИЧУ, и он КРИЧИТ тожэ. Я перебераюсь в другой угол клетки.
Ночью шторм. Кавчех качаеца в гавани, будто вот-вот утонит. Жыраф апракидываица и умираит. Роджерс – бальной как старая сабака, так ему и нада. Капканна ни-де не видна.
Нас с ним швыряит друх к другу. Он все ещо не сказал не слова. Но ва время шторма вдруг нас кидаит друх к другу, и он абнимаит меня, все такжэ не гаваря не слова. И я тожэ. Он проста держыт меня, и я чуствую как его СЕРЦЭ стучит и стучит возле МАЕВО СОБСТВЕНАВА СЕРЦА.
Животные порывы
Мы лежим в кровати, я чувствую, как два сердца бьются с обеих сторон. И мое собственное – «собачка» в игре в мяч.
– Полигамия – естественный инстинкт, – мурлычет Роз, зевком нарушая удовлетворенную тишину воскресного утра.
– Животный порыв, – шепчет Бланш, доставая с тумбочки у кровати схему с родословной. Периодически они так заводили разговоры – с середины. Словно первую половину проговорили молча.
– Смотри, Сам, мы почти закончили, – сообщила Роз, вручая мне таблицу.
– Мы писали ее вчера вечером, – добавила Бланш, – пока ты зависал в «Вороне» с отцом.
Я глянул. Впечатляюще. С последнего раза, когда я видел схему, они добавили парочку геральдических щитов с лилиями и вздыбленными львами по краю и нарисовали фломастером древо – только еще не вписали имена.
– Надеюсь, оно того стоит, – буркнул я. Меня одолевали сомнения. Чем больше я слышал о докторе Бугрове, тем меньше он мне нравился. Он умудрился убедить девчонок, что бзик по родословным в Америке, откуда новоявленные пенсионеры приезжали вагонами, чтобы обременить тебя поиском своих корней, скоро охватит и нашу умирающую нацию, сделав сестричек миллионерами. Впрочем, как им удалось выбить грант под исследование своего семейного древа, моему пониманию недоступно. Ну ладно. Может, он и прав. У нас и впрямь объявилась куча иностранных киношников, снимавших острые документальные ленты о конце эпохи – как в Гонконге перед тем, как его передали обратно Китаю. Вуайеристы, считал я. Паразиты.
– Смотри, мать мамы – из Оводдсов, – продолжала Роз, всучив мне компьютерную распечатку.
– А ее мать – Биттс, – вставила Бланш, растягивая распечатку передо мной, как гармошку. Они обе – словно корректировщики с картой огромного и довольно нудного железнодорожного узла.
– А до этого Болоттсы со стороны отца и Вотакены со стороны матери.
– Так что мы необычайно перемешаны, – резюмировали они хором и состроили рожу.
– Практически отдельный вид, – заключил я. Похоже, идея им понравилась, и они еще похихикали.
– Осталось одно поколение, – прокомментировала Бланш, зевая.
– Господи, меня тошнит, – выдала Роз.
– Меня тоже, – отозвалась Бланш.
– Наверное, из-за маминых викторианских овощей, – предположила Роз, зевая. – Она отрыла поваренную книгу на чердаке. «Бесплотная кухня». Блевотина.
– А на чем вам можно остановиться? – спросил я, пялясь на генеалогическую карту. – Семейное древо можно продолжать до бесконечности, верно?
– Для модуля требуется пять поколений – твердо сказала Роз и снова зевнула.
– Тогда мы получим диплом, – добавила Бланш, тоже зевая. Зевота заразительна; внезапно я сделал то же самое. И нырнул под одеяло. Зигмунд лениво зашевелился. Я провел носком по голени Розобланш. О-о; колючая. Я попробовал Бланшероз. То же самое. Зигмунд съежился. Вначале было совсем не так.
– Последние дни мы не брились, – хором выдали они.
– Нам как-то лениво, – пояснила Роз. – И вообще, мы собираемся весь день валяться в кровати.
– Потому что того и гляди проблюемся, – подвела итог Бланш.
– Да, вы умеете возбудить парня, – заметил я.
И что такого в этих женщинах? Этот вопрос нет-нет да витал в «Упитом Вороне»; впрочем, ответа никто не знал. Чарли Пух-Торф думал, это чисто гормональное. Рон Харкурт заявлял, что во всем виноваты их матери. Тони Вотакен – что это связано с природой социума. Но я считаю, все дело в эволюции.
– Твоя очередь варить кофе, Сам! – воскликнула Роз, пихая меня под ребра.
– У вас всегда моя очередь.
– Эй, а он наблюдательный! – захихикали они.
– Только сегодня мы не хотим кофе, – заявила Роз.
– Мы хотим какао с солодом.
Розобланш, Бланшероз, мои кандалы с Ядрами, подумал я, тяжело вставая с кровати и спускаясь по лестнице выполнять их просьбу.
– Топ-топ! – закричали они мне вслед.
– Ваше желание для меня закон! – отозвался я. Где-то я это слышал.
Верите или нет, прошел всего месяц с их переезда ко мне. Сначала все казалось в новинку. Думаю, такова природа всего нового. Раньше я никогда не сталкивался с полигамией. И всегда ассоциировал ее с бабуинами и шейхами.
После ночного клуба в Ханчберге они остались у меня на ночь. А потом на следующую ночь, и на следующую. Вся прелесть – и загвоздка тоже – в том, что их двое, а я один. Я всегда был главным в постели – с другими женщинами. Но только не с этими двумя. Переплетались не только наши тела, но и роли тоже. Сперва это возбуждало – то, что ты в меньшинстве и тебя так пользуют. Я самый счастливый парень в мире, повторял я себе. Такое не каждому по зубам; все-таки здесь требуется выносливость. Признаем – я работал за двоих. За выходные крошки так меня изматывали, что иногда в воскресенье ночью Зигмунд устраивал забастовку. И тогда они принимались настаивать, и пинать меня, и уламывать поцелуями и шепотом, а я ощущал себя их секс-игрушкой, которую по прихоти мотыляют туда-сюда. А потом я лежал между ними и слушал их стереодыхание. Но они доминировали не только в сексе. Они устанавливали двустороннее господство во всем, что мы делали. Кто решил, например, что они переедут ко мне? Не я.