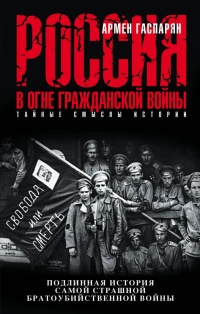Книга Белая Россия - Антон Туркул
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я шагом пустил коня вдоль толпы пленных. Они теснились, как разогретое серое стадо, в прозрачной дымке дыхания. С тачанки Шарль Ривэ махал шляпой, он удобно катил в тачанке за атакующей кавалерией, перевязывая по дороге раненых, наших и красных. Теперь он насмешливо крикнул мне, указывая куда-то вправо:
— Поэзия кончилась, началась проза...
Я думал, что он говорит про пленных. Запыленные, веселые и усталые, мы двинулись с музыкой назад, в Сечь. Надо сказать, что третья колонна красных, их кавалерия, успела от нас драпануть. В рядах не умолкал смех. То здесь, то там поднималось дружное пение. Как оживлены все лица: русская юность идет с победой.
Я заметил, что невеселы одни журналисты: бледны смертельно, разболтанно трясутся на конях, и все до одного сидят боком на седлах, просушивая на воздухе одну половину сиденья. Точно окривели вдруг, морщатся при каждом толчке, при каждом сильном ударе копыта. Глядя на кучку верховых журналистов, можно подумать, что мы потерпели страшное поражение, разбиты наголову и тащимся и трясемся теперь восвояси, как в воду опущенные.
Только у штаба Сечи, в Новогуполовке, выяснилось, в чем дело. Там мы узнали, что журналисты, оказывается, просто-напросто поприлипали к седлам. Они так набили себе в скачке сиденья, что не могли сойти с коней. Удалых корреспондентов, непривычных, правда, к конным атакам, пришлось у штаба снимать с седел, как детей, в охапку, в наши объятия, некоторые при этом даже легонько пристанывали. Предусмотрительный Шарль Ривэ указывал мне не на пленных, а на кучку журналистов: после боевой поэзии для них действительно началась лазаретная проза.
Стоит ли говорить, что доктору с фельдшером пришлось немало повозиться с корреспондентами, отмачивая им штаны перекисью водорода. У всех до одного, кого заводные кони понесли в атаку, сиденья были набиты, можно сказать, до сплошного бифштекса. Шарль Ривэ, правда, очень добродушно, один смеялся над нечаянными «отбивными котлетами».
Но к обеду все неприятности были забыты, шумно полились разговоры и белое вино, запели песельники, заиграла музыка. Долго не хотели уезжать из Дроздовской Сечи иностранные журналисты...
А помнят ли теперь наши гости — англичане, французы, итальянцы — помнят ли они тогдашние свои восторги, с какими описывали в Лондоне, в Париже и в Риме белых русских солдат и их блистательную конную атаку с мазуркой Венявского?
23-я Советская
До сентября 1920 года Дроздовская дивизия стояла в Новогуполовке. В Александровске, в Северной Таврии, был с Кубанской кавалерийской дивизией генерал Бабиев.
Мы, белогвардейцы, были последними представителями российской нации, взявшимися за винтовку ради чести и свободы России, молодым русским отбором, вышедшим из войны и революции. Русская романтика и вера, русское вдохновение были в Белой армии. Потому-то так много среди нашей молодежи, вчерашних студентов или армейских поручиков, было сильных, твердых и совершенно бесстрашных людей, удивительных смельчаков. В Белой армии были настоящие люди, настоящие души.
Последней опорой России была ее героическая молодежь, с винтовками и в походных шинелях. У красных — Число там серое, валом валящее Всех Давишь, у нас — отдельные люди, отдельные смельчаки. Число никогда не было за нас. За нас всегда было качество, единицы, личности, отдельные герои. В этом была наша сила, но и наша слабость.
Большевики как ползли тогда, так ползут и теперь — на черни, на бессмысленной громаде двуногих. А мы, белые, против человеческой икры, против ползучего безличного Числа всегда выставляли живую человеческую грудь, живое вдохновение, отдельные человеческие личности.
Таким героическим представителем Белой армии был и генерал Бабиев, сухопарый, черноволосый, с кавалерийскими ногами немного колесом, с перерубленной правой рукой. В конных атаках генерал рубился левой. Этот веселый и простой человек был обаятелен. В нем все привлекало: и голос с хрипцой, и как он ходил, немного перегнувшись вперед. Привлекала его нераздумывающая, какая-то ликующая храбрость. Такие, как Бабиев, а как много было их среди белогвардейцев, сильнее самой смерти. И останутся они сильнее смерти на вечные русские времена.
Привлекала порода Бабиева, проявлявшаяся в нем с головы до ног. Он был настоящим кавалеристом, особым существом, которое едва ли не сродни мифическому кентавру. Казаки особенно чувствовали Бабиева. Вольная Кубань с легким сердцем прощала ему не то что горячность, но и непохвальную привычку рукоприкладничать.
Я приехал к Бабиеву условиться о боевом рейде на Синельникове. В Александровске трубят трубачи, поют песельники: генерал Бабиев обедает с трубными гласами.
За обедом мы уговорились о совместном марше:
— Только давай без опоздания.
— Хорошо...
—Ночью вся Дроздовская дивизия, которой я в то время командовал, выступила левее железной дороги, а правее, впотьмах, с озябшим ржанием, поцокивая копытами, потянулась кубанская конница Бабиева.
В голове шел 1-й полк, а в голове 1-го полка — 2-я рота под командой маленького поручика Бураковского, почти мальчика: худенький, голубоглазый, с ослепительной улыбкой, легкий, как ветерок, всегда веселый, как зяблик.
В темноте наши головные атаковали хутор. Красную конницу мгновенно выбили и к рассвету стремительно двинулись в атаку на Синельниково. Наша голова, как щит, — передовая 2-я рота с Бураковским в порыве атаки далеко оторвалась от полка. Она приняла весь удар контратаки противника. Вот когда можно было видеть отвратительную ползучую силу Числа. Валами, вал за валом, большевистские цепи, колыхаясь с невнятным гулом, накатывали на роту.
За головной ротой шел штаб Дроздовской дивизии. Мой помощник, генерал Манштейн, скакал рядом, его конь терся бок о бок с моим конем. Светилось тонкое лицо Манштейна, рыжеватые волосы были влажны от росы; я помню, как он придержал коня, следя за серыми валами большевиков, затоплявшими редкую цепь малиновых фуражек.
Наша цепь подалась, точно вогнулась, покатилась назад.
— Отступают! — крикнул Манштейн и вдруг замер, приподнявшись на стременах.
Цепь выгнулась назад, точно тетива натянутого лука, и вдруг кинулась вперед, в колыхающиеся волны большевиков. У тех был перевес раз в двадцать пять. Затопят все. С правого фланга, без фуражки — русые волосы бил утренний ветер — шел с наганом маленький Бураковский. Он ослепительно улыбался под огнем, как в странном очаровании.
— Смотри, смотри...
Манштейн сильно схватил меня за руку, побледнел, и та же улыбка вдохновенного бесстрашия осветила его худое лицо:
— Как они идут! Боже мой, но это прекрасно! Что за рота?
— 2-я, — обернулся я и дал шпоры коню.
Замечательная атака Бураковского, как мгновенный удар огненной стрелы, сбила большевиков. Они откатились. 2-й конный помчался в атаку. Синельниково взяли, захватили до двух тысяч пленных.
Я сошел с коня у вокзала. Зал первого класса с огромными окнами. После товарищей, правда, как всюду, мерзость, разгром, отвратительный мусор и пакость. Обычный след советской черни, Числа: все пожрано, изгваздано, бессмысленно изодрано и точно бы выблевано. На стене я увидел большой плакат. На нем в военной форме царского времени, при генеральских погонах и регалиях, недурно изображен генерал Николаев. Плакат советский, пропагандный, под ним крупно напечатано: