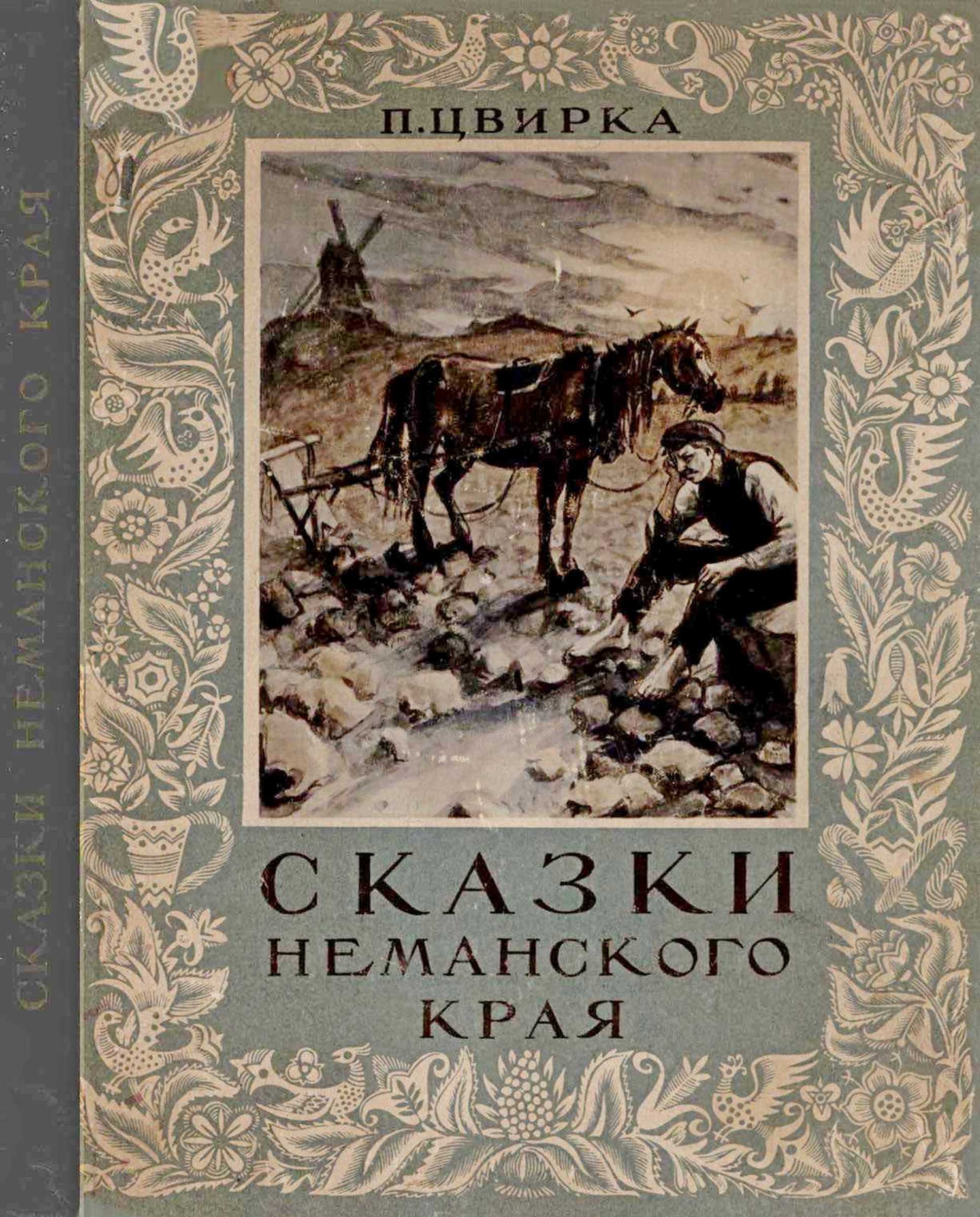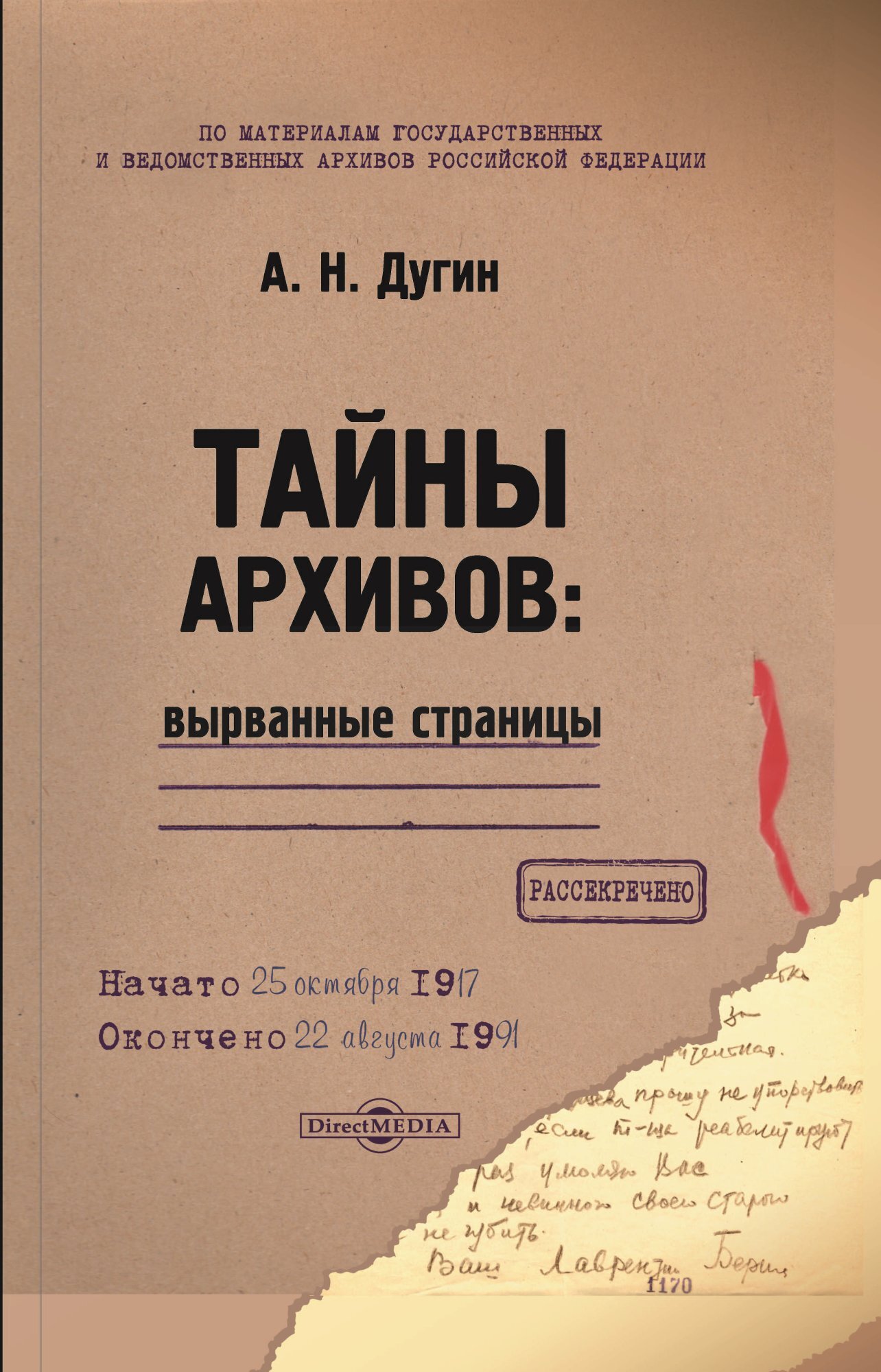Книга Создатели памяти. Политика прошлого в России - Jade McGlynn;
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как следует из эпиграфа к этой главе, хотя увлечение историей, возможно, особенно ярко проявилось в России с 2012 года, оно не просто началось тогда и далеко не является исключительно российским явлением или патологией. 1 Как и ностальгия, она может рассматриваться как "локальная вариация глобальной тенденции пост-идеологической политической культуры, основанной на обратном взгляде на историю" (Platt 2019: 232). Исторические (пере)рассказы вытеснили параболическую роль религии в объяснении морали, добра и зла. Это также помогает объяснить, почему использование истории в России и других странах функционирует как идеология, эта другая замена религии, зеркально отражая аргумент Николая Копосова (2018) о том, что Европа в целом, а не только Россия, переходит от века идеологии к веку памяти.
Культурное сознание как концепция создает и процветает на основе конфликта и бинарной оппозиции. Поэтому неудивительно, что его элементы присутствуют и в освещении поляризующих вопросов в других странах. Некоторые из очевидных примеров исторического фрейминга за пределами России можно найти в недемократических странах; например, журналистка Кэти Сталлард изучила, как Китай и Северная Корея (а также Россия) объясняют войны, ссылаясь на другие войны (Stallard 2022). В своей замечательной книге "Никогда не забывай о национальном унижении" академик Чжэн Ван описывает процесс, удивительно похожий на российский в Китае, показывая, как китайская коммунистическая партия не только выжила, но даже процветала после разгона на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, вернув себе поддержку многих китайских граждан путем идеологического перевоспитания общества с помощью истории и исторических нарративов (Wang 2012). Представляя Китай жертвой издевательств иностранных империалистов в течение "ста лет унижения", китайская коммунистическая партия использует исторические нарративы, переписывает и преподает историю, что объясняет заметные сдвиги во внутренней и внешней политике Китая, а также отчасти объясняет сохранение власти коммунистической партии.
В других частях коммунистического и постсоциалистического мира можно провести еще больше параллелей с российским использованием истории, включая те, которые служат мрачным предвестником российской резни украинцев. В югославских войнах наблюдалась такая интенсивность исторического фрейминга, перед которой даже война в Украине померкла бы. В первую очередь сербские СМИ неустанно использовали память о зверствах хорватов во Второй мировой войне, чтобы представить хорватскую армию 1990-х годов как бойцов Усташа 1940-х годов, вновь открывших Ясеновац и возобновивших геноцид сербов Анте Павелича. Подобные высказывания сопровождались торжественными перезахоронениями сербов, убитых во время Второй мировой войны, поскольку смерть Тито открыла путь к более открытому воспоминанию о хорватском геноциде против сербов в 1940-х годах, но также и к его политизации власть имущими в Белграде. Как и ссылки на бандеровцев и промайдановских украинцев в российских СМИ, освещавших украинский кризис, термины "усташи" и "хорваты" стали взаимозаменяемыми во время войны (Thompson 1999). С другой стороны, многие хорваты и боснийцы называли сербов четниками, ссылаясь на сербские националистические силы, которые в разные моменты боролись против оккупационных нацистских войск в Сербии и вместе с ними. Непереработанные воспоминания о Второй мировой войне преследовали войну, которая произошла примерно пятьдесят лет спустя.
Однако историческое обрамление и политизированное использование истории характерны далеко не только для посткоммунистического мира, и мы видим, что либерально-демократические страны применяют все более схожие тактики. Например, во время и после референдума по Brexit 2016 года некоторые британские СМИ и политики (особенно те, кто принадлежал к фракции European Research Group в Консервативной партии) неоднократно ссылались на сильно мифологизированную культурную память о блице и битве за Британию как на доказательство способности Великобритании преуспеть вне ЕС и причину для так называемого "жесткого" Brexit. Согласно этому нарративу, Британия может быть самостоятельной сейчас, вне Европы, потому что она сделала это в 1940 году. Во время переговоров по Brexit член парламента Марк Франсуа даже разорвал письмо с предупреждением от исполнительного директора Airbus Тома Эндерса во время интервью в прямом эфире BBC со словами: "Мой отец был ветераном Дня Д, он никогда не поддавался на издевательства со стороны немцев. И его сын тоже". В этом представлении "Brexit как вторая битва за Британию" история, на которую ссылаются, легко развенчивается простым упоминанием Британской империи, из которого следует, что Великобритания на самом деле не стояла в одиночестве, или того факта, что Уинстон Черчилль предпочел бы не стоять в одиночестве. Однако это развенчание не делает нарратив 'Britain Stands Alone' менее сильным или правдоподобным, потому что для многих людей это изображение представляет собой аллегорическую правду, а именно, что лидеры и народ Великобритании действительно проявили храбрость , решив не сдаваться нацистской Германии, когда остальная Европа была оккупирована, а США и СССР еще не вступили во Вторую мировую войну.
Подобные модели использования истории можно наблюдать и в так называемом "новом мире". Войны за историю и память все активнее ведутся в США, где раскольническая память о Конфедерации используется на Юге, чтобы определить, кто является настоящим южанином, и воззвать к забытой культуре, которая якобы находится под угрозой исчезновения. Постоянные споры о статуях бойцам Конфедерации в конечном счете являются уродливым спором о том, кто принадлежит или кто является полноценным американцем, который даже вылился в убийство в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, в 2017 году. Как и везде, эти статуи мало что говорят нам о прошлом: многие из них были установлены