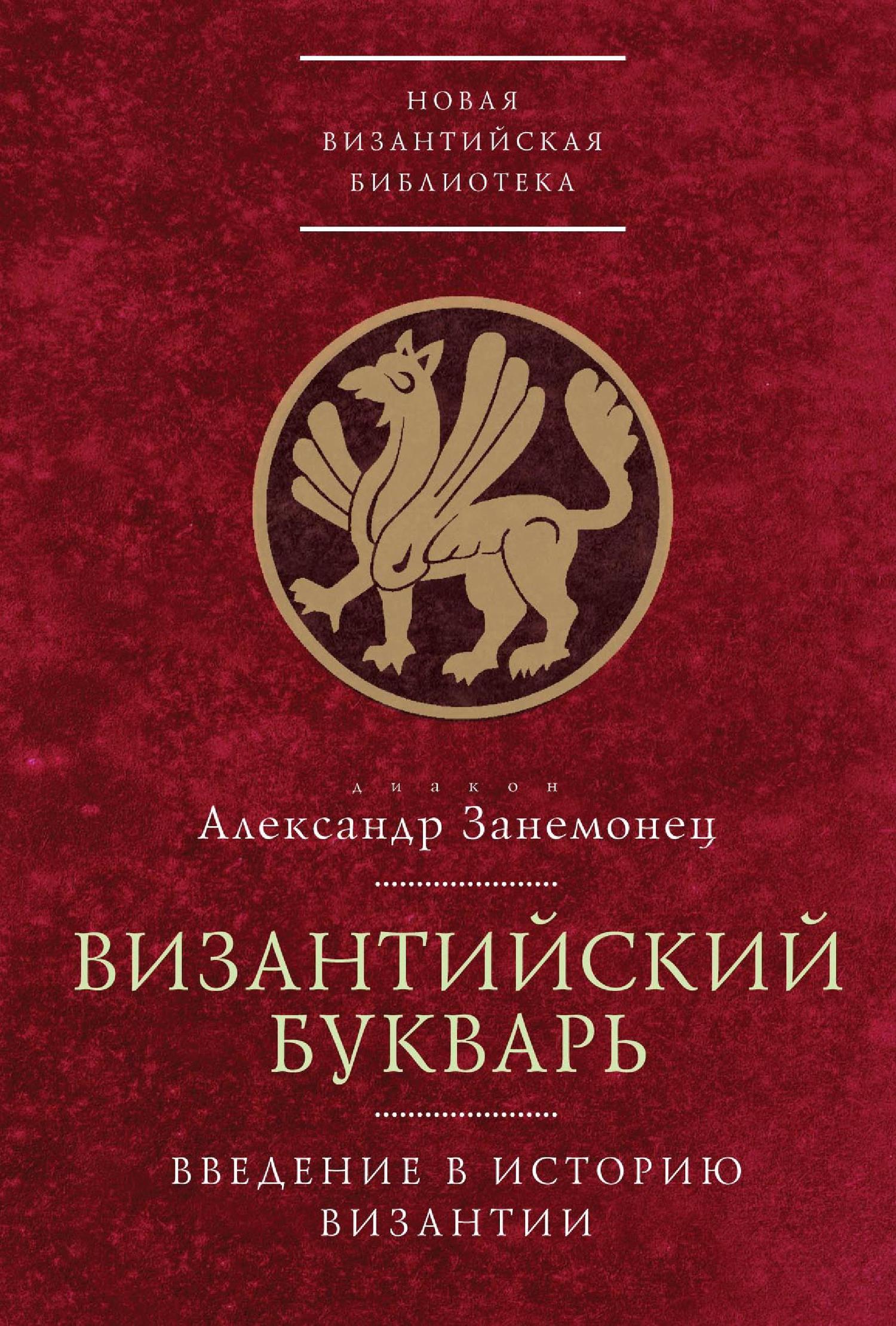Книга Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Впервые я увидел его у Мережковских, на одном из их воскресных литературно-мистических чаепитий. Кто говорил о значении символа Троичности для развития мексиканской цивилизации, кто о возмутительном выступлении г. Икс или г-жи Игрек на последнем заседании «Зеленой лампы». Зинаида Николаевна, по-русалочьи улыбаясь, поблескивая лорнетом, выискивала самого молчаливого гостя.
– Ну, а вы что думаете? Подожди, Дмитрий, не кричи. Вот он… простите, забыла ваше имя… вот он скажет!
На этот раз жертвой оказался молодой человек, с чем-то безлично-европейским и опрятным в облике, малозаметный, ничем не выделяющийся. Ответил он сразу, очень вежливо, очень запальчиво. Кто-то, уловив, что ответ не в тоне Мережковских, угодливо фыркнул. Зинаида Николаевна, слегка озадаченная, немедленно расхохоталась, что за чайным столом бывало с ней постоянно и, по ее глухоте, часто бывало невпопад. Слова Фельзена она, однако, расслышала.
– Ах, вот вы что… да причем же тут Лермонтов? Дмитрий, ты слышишь, что он говорит? Лермонтов! Ха-ха-ха…
Фельзен, чуть-чуть покраснев, настойчиво добавил еще что-то. Но никто его уже не слушал. Лорнет был обращен в сторону. Зинаида Николаевна говорила с другими и о другом.
Мы подружились, кажется, в тот же день, вместе выйдя и отправившись обедать в ресторанчик поблизости. Не то, чтобы его замечания у Мережковских меня поразили. Нет, правду сказать, нисколько. Но мне понравилась его трезвость среди других молодых людей, еженедельно по воскресеньям, от пяти до семи, механически становившихся пророками и безумцами. Понравилась его сдержанность, даже его молчание, не похожее на сдачу.
Зинаида Николаевна при ближайшей встрече сказала мне, будто нехотя:
– Да, вы правы, в этом чистюльке, конечно, что-то есть… И о Лермонтове он тогда сказал необыкновенно тонко!
«Что-то» в нем, действительно, было. Что-то не вполне русское: жар, всегда ровный и не очень яркий, ум без разлада с сердцем, суховатая мечтательность, внимательная сдержанная верность. Не было друга, насчет которого могло бы возникнуть меньше сомнений, – в пустяшном ли, шутливом разговоре, «за спиной», когда все мы, по общей нашей слабости, говорим один о другом бог знает что, оставаясь при этом приятелями; в делах ли – важных, влияющих на ход жизни. Он был верен естественно, непроизвольно, без всякого напряжения, как он был добр естественно, без слезливости. Немножко «в футляре», как сказали бы о нем иные русские, склонные к демонстративной «распашке». Но я убежден, что ни жертва, ни подвиг не испугали бы его, почувствуй он их необходимость. В нем не было вспышек – полная противоположность Штейгеру, и в особенности Поплавскому! – а была постоянная естественная готовность сделать все то, для чего другим вспышки необходимы. Из фельзеновского поколения не могу вспомнить человека, в применении к которому слово «честный» приобретало бы смысл более глубокий.
Писал он почти непрерывно, карандашом, на каких-то скомканных листках, которые вынимал из кармана, писал в кафе, на улице, в метро, без устали перечеркивая, исправляя, сокращая, дополняя. В особенности, дополняя. Ему все казалось, что не все он сказал. Не знаю, было ли у него настоящее, несомненное дарование, из тех, о которых невозможны споры. Он сам не тешил себя на этот счет никакими иллюзиями и, помню, однажды сказал, со своей всегдашней естественной, странно горделивой скромностью:
– У меня нет таланта. Но у меня есть призвание.
Что такое талант? Вечная тема о Моцарте и Сальери, с какой-то благодатно-моцартовской легкостью задетая Пушкиным, но далеко им не исчерпанная: тема солнечного и лунного света, тема теневой стороны, терпенья, зоркости, понимания всего того, чему в долгих мучениях учатся Сальери, чем бывают они обогащены и вознаграждены… Вероятно Фельзен по природе был из числа «без-благодатных». Но нетрудно было бы назвать некоторых доморощенных, мнимых, преуспевающих Моцартов, – с рассказиками и повестушками, где и люди, и пейзаж «совсем как живые» – которым опасно было бы его соседство. Фельзен никого не «берет за жабры». Творческая сущность его пассивна. Но дает он больше, чем кажется на первый взгляд, и кто сделает усилие, чтобы привыкнуть к его путанным, как будто бескостным, бесконечным периодам, к маниакальному нагромождению эпитетов, к душно-комнатной атмосфере его романов, к его призрачным, анемичным героям, к его вечной, единственной героине, наконец, к этой Леле, в которой есть кое-что от Беатриче, а кое-что от капризной парижской барышни, кто, одним словом, захочет в его произведения – хотя бы в роман «Повторение пройденного» – вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя. Никакими другими книгами, пусть в сто тысяч раз более талантливыми и блестящими, их нельзя заменить. Лелю забываешь довольно скоро, но в памяти остается свет, которому нет имени.
Сомнения и надежды
Каждому из нас случается, вероятно, думать о таинственном собирательном лице, по имени «будущий историк». Что скажет «будущий историк» о нашем времени, кого возвеличит, кого осудит? В частности, что скажет он о русской эмиграции, как оценит ее заслуги и ее ошибки? Лет через сто или хотя бы пятьдесят, признает ли он, что от эмигрантской литературы кое-что должно бы навсегда остаться?
Но не только оценки или раздача почетных титулов и мест составляют предмет догадок (то приблизительно, что Виктор Шкловский в остроумной книжке назвал «гамбургским счетом»: в прежние годы борцы-атлеты будто бы съезжались иногда в Гамбург для состязаний закрытых, честных, без подкупов и кумовства, с целью определить, кто действительно чемпион, а кто величина дутая). Прозаики и поэты окажутся расставлены на ступеньках иерархической лестницы, иллюзия, будто время во всем разбирается безошибочно, еще раз восторжествует, – но не только же этим предстоит «будущему историку» заняться, если окажется он историком вдумчивым и проницательным… Его заинтересует, вероятно, и то, чем в духовном смысле слова жили писатели вне России, чего ждали, чего опасались, на что надеялись, особенно в тот период, когда единство эмигрировавшей интеллигенции, ее «спайка» не были еще нарушены внешними событиями, как случилось это после войны. Не знаю, согласится ли будущее, что в те годы был у нас литературный расцвет. Слово это может показаться неуместным, слишком пышным. Но что была жизнь, что был подъем, что было подлинное оживление, с этим «историк» согласиться должен будет, если окажутся в его распоряжении нужные для суждения материалы.
Были бесконечные споры, в традиционно русском духе, большей частью ночные, – а если вместо продымленной комнаты со стаканами остывшего чая декорации бывали иные: ярко освещенное