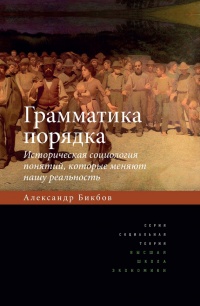Книга Постправда: Знание как борьба за власть - Стив Фуллер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эта рискованная модальная стратегия, лежащая в основе, к примеру, пари Паскаля, в котором делается ставка на бытие Бога, и самоисполняющимся пророчеством, является «перформативной» в том широком смысле, получившем популярность после многочисленных творческих переработок теории речевых актов Джона Остина, которые в последние 30 лет были предложены многими авторами, начиная с Джудит Батлер, которая применила ее к гендеру, и заканчивая Мишелем Каллоном, занимающимся экономикой. Во всех этих довольно разных случаях мы действуем, «как если бы» желаемый режим был уже введен в строй, чтобы он действительно мог вступить в действие. Сам Остин [Austin, 1962; Остин, 1999] считал, что такая способность превращать возможное в действительное внутренне присуща семантике естественных языков. Его собственные примеры обычно берутся из квазиюридических контекстов, таких как обещание, в которых определенный моральный режим получает воплощение в реальности за счет одного-единственного высказывания.
Теологическим ориентиром такого понимания власти языка является, разумеется, авраамическая концепция божества, создающего вещи путем их произнесения (logos). Но также его можно обнаружить в различных философских концепциях самозаконодательства начиная со стоиков и заканчивая Кантом. В этом случае те, кто актуализирует возможное, являются сознающими себя конечными существами, обладающими моральной психологией, требующей сохранять стойкость в условиях враждебного окружения. «Упорство», любимое слово Баруха Спинозы, Гоббса и пуритан-основателей Америки, описывало эту установку, но сегодня более подходит «гибкость». Во всех этих выражениях сохраняется, хотя и во все более секулярной версии, исходный смысл «верности», предполагающей безусловную лояльность, присутствующую и в христианском значении «веры» (faith), слова, которое само происходит от латинского fides, означающего должное отношение солдата к командиру в римской армии [Fuller, 1988, ch. 2].
Юн Эльстер [Elster, 1979; 2000] предложил интересную интерпретацию всей этой установки по отношению к миру, определив ее в утилитаристских (в широком смысле) терминах как «предварительное обязательство», в котором человек свободно принимает решение действовать так, словно бы мир управлялся каким-то альтернативным образом, чтобы получить соответствующие выгоды. Вероятно, именно такой была стратегия Галилея, когда он выносил фактические суждения на основе применения телескопа, хотя методология оценки телескопических наблюдений к тому моменту еще не была установлена. Таким образом, в момент папского расследования Галилея небезосновательно считали казуистом [Feyerabend, 1975; Фейерабенд, 2007]. Хотя Галилей предполагал (совершенно верно), что оптика телескопа со временем сможет получить подтверждение, его личный телескоп был в лучшем случае несколько усовершенствованной игрушкой, расширение возможностей которой основывалось на чисто спекулятивном понимании этого устройства. Неудивительно, что Галилей не смог произвести на инквизиторов впечатление условиями, на которых он сам выдвигал свои притязания на знания. Тем не менее его действия помогли вдохновить других играть по предложенным им правилам, а потому мы говорим, что он выиграл спор посмертно. Чтобы это произошло, следовало довести развитие ремесла и оптики телескопа до такого уровня, чтобы открыть горизонт возможностей, который был намечен Галилеем.
Различие между Аристотелем и Диодором, на которое я только что ссылался, позволяет выделить более общее качество попыток человечества разобраться с рациональностью в ее одновременно политической и научной разновидностях. Возможно, наиболее важное метафизическое различие между силлогистической логикой Аристотеля и современной символической логикой в том, что первая полагает, что истинностные значения определенных высказываний уже известны, тогда как последняя, более отвечающая принципам Диодора, предполагает лишь знание условий, при которых такие высказывания могли бы быть истинными, и того, что могло бы из них следовать. Проще всего это понять, если обратить внимание на то, что силлогизмы Аристотеля обычно выражаются в виде цепочки утверждений (например, «Все люди смертны. Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен»), тогда как символическая логика переписывает тот же набор высказываний в гипотетическом модусе, который безразличен к истинностному значению каждого высказывания (например, «если p, то q, p, q»).
Такая смена подхода подводит нас к установке постистины. Она полагает актуальный мир в качестве всего лишь одного из множества возможных миров, каждый из которых мог бы при подходящих условиях сбыться. В языке символической логики спектр этих возможных миров выражается в виде системы алгебраических уравнений, которые надо решить одновременно. Когда экономисты говорят о «совместной максимизации» различных желаемых свойств, они придерживаются именно такого подхода. Каждое такое уравнение состоит из «переменных» (например, p и q), которые связаны «функцией», каковая является свойством, которым мог бы обладать возможный мир. В этом случае «значения», принимаемые переменными, определяют состояние этого мира. Короче говоря, тот, кто определяет термины уравнения, определяет и структуру мира. Или, как говорил наиболее влиятельный аналитический философ второй половины XX в. Уиллард Куайн, «быть значит быть значением переменной».
Основной момент этой точки зрения, свойственный современной научной и политической рациональности, состоит в том, что реальность – это то, о чем принимается решение, а не нечто данное. Когда Бог принимает решение, результатом становятся наилучшие возможные принципы упорядочивания универсума; когда же решение принимают люди, результат – не более чем рискованная гипотеза, которая может быть фальсифицирована последующими событиями. Такой способ рассмотрения вещей в конечном счете определяется теодицеей, разновидностью теологии, занимающейся объяснением и оправданием того, как совершенное божество могло создать мир, кажущийся настолько несовершенным. Основная идея заключается в том, что божественное суждение в конечном счете нацелено на гармоничное уравновешивание противоборствующих сил, оптимальное соотношение которых оценивается только по итогам процесса. Хотя в разуме Бога как логике творения (или logos) подобная гармонизация достигается мгновенно, у людей она растягивается на определенное время, причем политика и наука действуют в качестве альтернативных горизонтов понимания этого процесса, понимания, возможно, подверженного ошибкам или же допускающего исправления, но в любом случае влекущего немалый ущерб. Этот общий модус рассуждения – вместе со всеми связанными с ним моральными мучениями – обычно связывают с Лейбницем, который в 1710 г. придумал термин «теодицея», но сама эта идея вскоре была высмеяна Вольтером в «Кандиде», который вывел Лейбница под именем Панглосса. Однако теодицея вскоре была воскрешена и историзирована в гегелевской диалектической философии истории, в которой каждый момент оптимальности, представляющийся таковым с человеческой точки зрения, оказывается всего лишь временным, выступая основой для его последующего смещения [Elster, 1978].
Особой формулировкой актуализации возможного «как если бы», представляющей собой перформативное выражение модальной власти, мы обязаны Гансу Файхингеру, о котором мы уже говорили в главе 2. Он построил целую философию на этом выражении (als ob), которое Кант часто использовал для обсуждения нашего отношения к реальности [Vaihinger, 1924]. Файхингер жил во времена, когда различие факта и вымысла, которое стараниями Платона намертво отпечаталось в западном сознании, оказалось под ударом. Файхингер, подобно Марксу и Ницше до него, испытал на себе сильнейшее влияние демистифицирующих интерпретаций Библии, предложенных «историко-критической» школой теологов, которые склонялись к тому, чтобы рассматривать Иисуса в качестве «символа», а не божества. Такому стиранию границы между фактом и вымыслом способствовали и две другие секулярные тенденции конца XIX в. Первой был подъем «конвенционализма» в математике и физике, который позволил постулировать недоказуемые утверждения, если они порождали логически связную систему мира, которая, в свою очередь, могла бы моделировать функционирование нашего собственного мира. Именно так была изобретена «неевклидова геометрия», которая лишь позднее стала математическим аппаратом революции в физике, произведенной Эйнштейном. Второй стало развитие натуралистического, или, как говорил Эмиль Золя, «экспериментального», романа, во всех подробностях отыгрывавшего различные версии, придуманные социальными реформаторами, и способного порой засвидетельствовать происходящее в тех частях общества, для которых не существовало никакой официальной документации. Вольф Лепенис [Lepenies, 1988] показал, что этот процесс оказал воздействие на стиль академической социологии, застолбившей участок между «литературой и наукой».