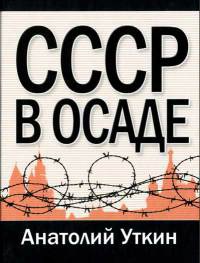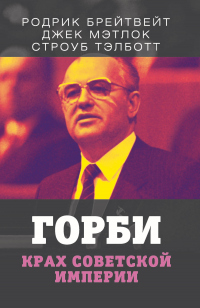Книга Пассажиры колбасного поезда. Этюды к картине быта российского города. 1917-1991 - Наталия Лебина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Н. Э. Радлов. Обложка книги М. Зощенко «Рассказы». М.: Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ, 1938. Личный архив Н. Б. Лебиной
Н. Э. Радлов. Форзац книги М. Зощенко «Рассказы». М.: Издательство детской литературы ЦК ВЛКСМ, 1938. Личный архив Н. Б. Лебиной
Хрущевская оттепель реабилитировала многие литературные произведения. У книг как у культурно-бытового маркера появились новые характеристики, которые я уже воспринимала почти сознательно. Но это была не моя личная заслуга. Просто я выросла в сугубо книжной атмосфере. В общем, по Высоцкому:
Мой отец больше всего на свете любил книги. Но это было не утонченное чувство интеллектуала-эстета и не фанатическая страсть коллекционера-библиофила. Отцовское отношение к книге носило скорее потребительско-прагматический характер. Он искренне следовал горьковскому призыву: «Любите книгу – источник знаний», до последних минут жизни не сомневаясь в его правильности. Отец не был человеком «высокой культуры». Высшее образование он получил поздно, лишь в середине 1950‐х. Сначала долго воевал. Потом тяжело болел. А потом шла обыкновенная жизнь – семья, работа. Недостаток систематических знаний казалось возможным возместить за счет книг. Не буду отрицать, что книгомания была следствием атмосферы места работы папы. В 1949 году он, инвалид, фронтовик, член ВКП(б) с 1940 года (вступил во время советско-финского конфликта), стал инспектором-консультантом по кадрам ленинградских учреждений Академии наук СССР528. Окружение обязывало. Отец считал необходимым покупать книги, нередко в ущерб семейному бюджету. Как я сейчас понимаю, жили мы в 1950‐х годах не просто скромно, а бедно. Как-то знакомый отца, москвич из номенклатуры Президиума Академии наук, посетив нас, предложил: «Борис, проблему обстановки можно решить очень просто. Вот шкаф, – сказал он, ткнув пальцем в собрания сочинений Пушкина, Достоевского и Толстого. «Вот сервант», – добавил, указав на томики Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера. И таким образом доброжелательный в общем-то товарищ «обставил» нам всю квартиру.
«Жили книжные дети…». 1968. Личный архив Н. Б. Лебиной
Папа приобретал книги целенаправленно. Он считал, что в доме должны быть издания, которые создают некую общую культурную базу, – русская и зарубежная классика, а главное, энциклопедии и словари. Я отчетливо помню лукаво-виноватое выражение отцовских глаз после очередного визита в знаменитый в советское время магазин «Академкнига». Деньги потрачены, но книги в доме. Их можно читать лежа в кровати. Можно отметить карандашом понравившуюся мысль. И сегодня я, уже старый человек, с удовольствием рассматриваю отцовские маргиналии на полях книг. Иногда думаю, что подвигло его отметить именно эту строчку или строфу.
В общем, по моему представлению, составить приличную домашнюю библиотеку в годы оттепели было не слишком сложно при наличии должного интеллекта. Да, конечно, антиутопии Джорджа Оруэлла и Евгения Замятина я в юности не читала, но о существовании такого жанра представление имела. Это позволило мне в самом начале 1970‐х годов, в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР, одной из немногих адекватно отреагировать на шутку блестящего ученого Валентина Семеновича Дякина. Он проводил у нас в учреждении ежемесячные философские семинары и частенько упоминал об «укоризне», которую воздавали в некоторых племенах молодым нарушителям нравственных правил. Мое знакомство с романом Герберта Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь» явно вызвало у Дякина одобрение и некий интерес ко мне, чем я и по сей день горжусь. Почти невидимая паутинка связала нас потому, что мы оба читали вполне подцензурную литературу, но могли увидеть ее скрытый смысл, что важно для историка.
Книг в нашем доме «было и есть» много. Не могу не вспомнить в этой ситуации забавную историю, произошедшую с моей мамой в конце 1960‐х годов. У соседки умер супруг. Она прибежала к нам и стала эмоционально рассуждать о том, как следует разделить наследство со взрослой дочерью от первого брака мужа. «Ну, дачу я перепишу на себя, – рассуждала соседка, – обстановку в квартире тоже оставлю себе. А вот книжки придется делить». «Ну что вы, – сказала моя наивная светлая мама, – библиотеку отдайте дочке. Ведь это такая память об отце». Соседка захохотала: «Катенька, какая библиотека? Я говорю о сберегательных книжках!» Их, по-видимому, у соседа было немало, наверное, целая полка.
Знакомство моей семьи с литературой не ограничивалось, как принято думать о среднестатистическом советском обывателе, только изданиями сугубо официальными. И мне, и моим родителям был известен самиздат. Для характеристики этого явления в культуре и быту разумнее всего привести мнение академика Лихачева. Он писал: «Самиздат имеет в общественной жизни большое значение – особенно в пору неправильных ужесточений: цензурных, редакторских. Самиздат существовал всегда. Взять, к примеру, дореволюционный – вещи, направленные против Распутина, они не могли быть выпущены официально, ходили в списках. 20‐е годы. Многие стихи того же Есенина распространялись неофициальными путями… Но в самиздате всегда было разное. И прогрессивное, острое. И вещи реакционные, антисемитские, грубо-анархические. Каждый волен выбирать что нравится. Чем меньше будет давления на официальную печать, тем меньше будет самиздата»529. Конечно, в условиях советской действительности самиздат приобрел особый социокультурный смысл. Для многих он стал не только символом, не только средством сопротивления системе, но и особой сферой быта. Среди людей, связанных с самиздатом, были кланы издателей-распространителей и читателей-потребителей. Самиздатовская литература, в свою очередь, разделялась на малотиражные литературно-философские, религиозные, политические журналы, где чаще всего печатались начинающие поэты, будущие диссиденты, нестандартно мыслящие молодые ученые, и книги из сокровищницы мировой литературы, не публикуемые в СССР по цензурным соображениям. Последние распространялись чаще всего «в списках», иногда просто перепечатанными на машинке. Повседневность творцов самиздата, безусловно, заслуживает внимания, но для характеристики специфики досуга среднего советского человека более важны «списочные» произведения. Питерский прозаик Валерий Попов писал: «В основном в самиздате мы прочли все самое лучшее»530. Думаю, что все-таки это преувеличение. Среди официально публикуемых в СССР книг было достаточно вполне достойных литературных произведений и отечественных, и зарубежных авторов. Но перед соблазном прочитать нечто запрещенное мало кто из интеллигенции мог устоять. Помню анекдот конца 1960‐х – начала 1970‐х годов, который, к сожалению, не вошел в антологию, созданную Михаилом Мельниченко: «Женщина просит машинистку из издательства перепечатать на отдельных страницах формата А4 повесть Пушкина „Капитанская дочка“. „Зачем?“ – удивляется машинистка. Женщина отвечает: „Он верит только самиздату, а там ведь все на машинке. Может, хоть в списках прочтет Пушкина“». В таком виде в юности я прочла стихи из романа Бориса Пастернака – «самиздат в самопереплете», конечно же, принес отец. В 1970‐х – начале 1980‐х годов благодаря новой технике копирования, а главное, доставки запрещенных произведений из‐за рубежа значительная часть советских людей познакомилась с «Крутым маршрутом» Евгении Гинзбург, «Раковым корпусом» Солженицына, «Доктором Живаго» Пастернака, «Реквиемом» Ахматовой и др. У нас в доме появились «Двадцать писем к другу» Светланы Аллилуевой, изданные в Нью-Йорке в 1967 году. Мемуары опальной дочери Сталина привез папин школьный друг Владимир Александрович Сажин. Он долгое время работал в посольстве СССР в США, а затем в советской дипмиссии в Пакистане. Выносить книжку из дома отец мне не разрешал.