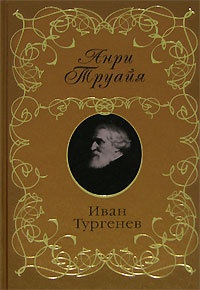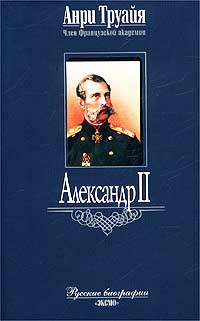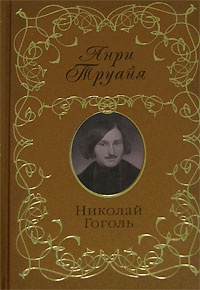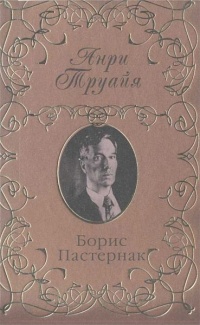Книга Марина Цветаева - Анри Труайя
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однажды, взволнованная отчаянием, звучавшим в словах Марины, Анастасия решилась предложить:
«– Может быть, в России было бы легче?..
– У меня нет сил ехать… все заново? Не могу! Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. Мне хочется за предел этого всего. На какой-нибудь остров Пасхи? Но и там уже нет тишины, первозданности, как на тарусском лугу, на холмах, где березы, в детстве. Всюду уже может прилететь аэроплан – и на остров Пасхи! Некуда от людей укрыться… Ты – добрее меня, наверное. Ты еще любишь людей?.. А я уже давно ничего не люблю, кроме животных, деревьев… Аля – в трудном переходном возрасте. Она очень талантлива. Очень умна. Но она – вся другая. Мур – мой. Он – чудный».[189]
Но Анастасия в отличие от сестры не видела никаких причин для того, чтобы продолжать эту жизнь вдали от родины. И готовилась к возвращению туда без особого энтузиазма, но и без сожалений.
Как-то после очередной сестриной исповеди Анастасия отправилась в Париж – навестить подругу детства, Галю Дьяконову, которую звали теперь Гала и которая стала женой французского поэта Поля Элюара. Встречалась она и с Ильей Эренбургом, работавшим во Франции корреспондентом одной из советских газет. Но Марина не считала уместным свое участие в подобных светских развлечениях, чувствуя себя старой для них. Впрочем, она еще и оправилась-то от болезни не более чем наполовину, и ее одолевала слабость. Она и из дому выйти боялась, чтобы не свалиться где-нибудь на улице. И когда Анастасия решила вернуться в Москву, на вокзал ее поехал провожать Сережа.[190] Когда поезд уже пускал пары и готов был тронуться с места, на перрон вбежал запыхавшись нежданный посланец – Константин Родзевич. Он принес пакет и письмо, которое Марина поручила ему передать путешественнице. В пакете оказались апельсины – «на дорогу»: безумная, разорительная трата для убогого бюджета Эфронов. Вынув из конверта записку, Анастасия читала ее – и слезы застилали глаза, и строчки прыгали перед глазами: «Милая Ася… когда вы ушли, я долго стояла у окна. Все ждала, что еще увижу Тебя на повороте, – вы должны были там – мелькнуть. Но вы, верно, пошли другой дорогой!.. Бродила по дому, проливая скудные старческие слезы… Твоя М. Ц.» Этот всплеск отчаяния укрепил Анастасию во мнении о том, что сестра ее будет несчастна до тех пор, пока не обретет тепла и аромата отчего дома – России…
Вновь оказавшись в Москве, где она почти сразу же приступила к работе в Музее изящных искусств, основанном когда-то ее отцом,[191] Анастасия связалась с Пастернаком, и они вдвоем стали искать убедительные доводы заставить Марину вернуться в Россию. Им было ясно: если Цветаева вернется на родину, все ее проблемы решатся сами собой. И первой их заботой стало – донести эту идею до Максима Горького, любимого и обласканного Советами писателя, чье мнение могло стать решающим для властей. Они уверяли Горького, что присутствие в Москве Марины Цветаевой вознесет небывало высоко престиж советской литературы в мире. Но Горький не разделял их восхищения талантом Марины. Он находил ее поэзию «кричащей», даже «истеричной», ему казалось, что она плохо владеет смыслом слов, употребляемых ею направо и налево. «…у сестры Вашей многого не понимаю, – писал он Анастасии в не отосланном ей письме, с фотокопией которого корреспондентка сумела познакомиться только в 1961 году, – как не понимаю опьянения словами вообще ни у кого. Нет, не этим приемом можно поймать неуловимое в чувстве и в мысли, не этим».[192]
А в то самое время, когда этот выдающийся мастер социалистического реализма в литературе вот так – издалека – выносил ей приговоры, Марину Цветаеву одолевал соблазн (может быть, для того, чтобы бросить ему вызов?) вернуться к своему прежнему восторгу в адрес героев Белой армии. Пользуясь заметками мужа о Гражданской войне, она хотела создать поэму, посвященную ста дням обороны Перекопского перешейка, осаждаемого красными, придав в новом сочинении символическое значение любым попыткам, продиктованным самозабвением. Однако Сергей, доверив ей сначала свои блокноты, внезапно забрал их назад. Возможно, из опасения, как бы Марина снова не вызвала катастрофы излишней своей пылкостью. Это привело ее в замешательство, и она отказалась продолжать работу над вещью.
«Вот я полгода писала Перекоп (поэму гражданской войны), – жалуется она Анне Тесковой, – никто не берет, правым – лева по форме, левым – права по содержанию. Словом, полгода работы даром, – не только не заплатят, но и не напечатают, т. е. не прочтут».
Отложив рукопись «Перекопа» в ящик, она отдалась работе над новым текстом – близким по вдохновившему его источнику: «Поэмой о Царской Семье». Император России, императрица и их дети были убиты в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Разве они – и они тоже! – не имели права на то, чтобы хотя бы посмертно им воздала честь та, для кого лететь на помощь побежденным было законом? В августе 1936 года Марина присутствовала на двух подряд выступлениях бывшего главы Временного правительства России, адвоката и политика Александра Керенского, который дрожащим от волнения голосом вспоминал об ужасной судьбе последних Романовых. Он утверждал, что выслал Николая II из его мирной резиденции в Царском Селе, отправив вместе с близкими в Сибирь, только для того, чтобы уберечь монарха от преследований, которым всех их подвергли бы жители Санкт-Петербурга. Побежденная диалектикой оратора Марина вообразила, что Керенский, как и она сама, безутешен из-за этого убийства, из-за которого Россия будет покрыта краской стыда до конца времен. Но, поначалу возбудившись сюжетом, она на полпути бросила работу над этим реквиемом – так, будто ставка в этой политической игре при ее позиции чересчур высока. От дерзкого проекта остался только один фрагмент, названный «Сибирь». А в последнем порыве верности прошлому она напишет под заголовком незаконченной рукописи «Перекопа» посвящение Сереже: «Моему дорогому и вечному добровольцу»…
Необходимость отдать дань героизму, о котором скорее всего никто бы и не вспомнил спустя столько лет, у Марины сопровождалась внезапным порывом страсти к юному поэту, редактору «Последних новостей» Николаю Гронскому. Свежесть, талант, энтузиазм этого мальчика, с которым она только что познакомилась, вернули Марину к жизни. Она давала Гронскому уроки стихосложения, он – в отплату – совершал с ней долгие пешие прогулки. Не прошло и двух дней после знакомства, а она уже отправилась с ним в пятнадцатикилометровый поход до Версаля. «Блаженство! – пишет она Анне Тесковой. – Мой спутник – породистый 18-летний щенок, учит меня всему, чему научился в гимназии (о, многому!) – я его – всему, чему в тетради. (Писанье – ученье, не в жизни же учишься!) Обмениваемся школами. Только я – самоучка. И оба отличные ходоки».